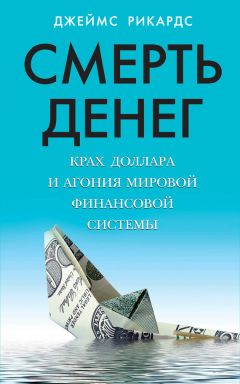На углу Нового Арбата кучкой стояли омоновцы. Один с деланой ленцой заступил дорогу.
– Кто это тебя? – спросил он, без сочувствия разглядывая его покорябанную физию.
– Они, – кивнул Жохов в сторону Белого дома.
– Ай-яй, какие нехорошие.
Омоновец подцепил пальцем ленточку с ленинским профилем, по-прежнему алевшую на груди у Жохова. Он забыл про нее начисто.
Чудом удалось увернуться от дубинки, которая не так больно, как могла бы при прямом ударе, проехала по плечу. Едва не упав, Жохов перебежал улицу и дунул по тротуару, виляя между прохожими. Битое стекло хрустело под ногами.
Через полквартала перешел на шаг. Никто его не преследовал. Значок был выброшен, но и без него не стоило с такой мордой маячить на проспекте. За кинотеатром «Октябрь» он свернул на Борисоглебский, бывшую Писемского, и осенило, что совсем рядом, буквально в двух шагах, находится монгольское посольство. С весны в нем работал старый друг Саша, сын монгольского генерала. Отец по своим каналам сумел перенацелить его с бесперспективной по нынешним временам геологии на дипломатию. Пару раз Жохов заходил к нему в гости, после того как летом случайно встретились на Ярославском вокзале. Саша получал там прибывшую с улан-баторским поездом экологически чистую баранину для посла.
Жохов взял со стола бутылку «Столичной» с недавно приговоренной к сносу гостиницей «Москва» и гроздью выставочных медалей на этикетке, снова наполнил рюмки. Себе налил поменьше. Пил он всегда немного.
Сидели в его двухкомнатной квартире на главной улице Хар-Хорина, в двухэтажном кирпичном доме типа тех, какие на Урале, в родном городе Шубина, после войны строили пленные немцы, а здесь, наверное, японцы. Квартира была с хорошей мебелью, с тюлевыми занавесками и кружевной салфеткой на телевизоре. По дороге Жохов сказал, что женат на монголке. Она врач, при Цеденбале по путевке окончила иркутский мединститут, заведует инфекционным отделением в здешней больнице. Вчера ее вызвали в Улан-Батор на трехдневные курсы повышения квалификации.
Он закусил кровяной колбасой, закурил, открыл форточку и заговорил снова. Шубин слышал, как под окнами проезжают машины, с усыпляющим шумом разбрыгивая колесами лужи. В тепле, после водки, его разморило. Он крепился, но на пару минут все-таки задремал и пропустил несколько звеньев той цепи, на которой Жохова прямо со Старопесковского переулка зашвырнуло в Улан-Батор. Кто держал другой ее конец, тоже было неясно. Вроде какие-то монголы, Сашины знакомые. Лишь яйца завроподовых динозавров, водившихся на территории Гоби, докатились до него сквозь дремотный туман. Одно такое яйцо стоило три тысячи долларов, а если с зародышем, цена поднималась до ста тысяч. Эта цифра заставила окончательно проснуться.
– В тот же день и вылетели ночным рейсом, – рассказывал Жохов. – Морду мне подпудрили, Саша визу сделал, а эти гаврики с летчиками договорились, чтобы билетов не брать. В Улан-Баторе взяли «уазик», поехали в Даланцзагад. Это центр Южногобийского аймака. Так-то до него шестьсот километров, по здешним масштабам не расстояние, но по дороге ломались два раза, потом снег пошел, дорогу перемело. Пилили четыре дня. Бросился в Москву звонить, да вот хрен тебе! В Улан-Батор и то не прозвонишься.
– Обожди, – перебил Шубин. – Почему ты Кате сразу-то не сообщил?
– Так вышло. Я из посольства звонил, из аэропорта, из Улан-Батора. Не берут трубку, и все. Потом выяснилось, у Талочки телефон не работал. В Улан-Баторе пошел давать телеграмму и тут только спохватился, что не знаю номер дома. Улицу знаю, квартиру знаю, а это как-то не отложилось в памяти. Писем я ей не писал, платежки не заполнял. Незачем было запоминать. То ли так, то ли так, то ли так. Дал три телеграммы на три адреса, и все оказались неправильные… Значит, в Даланцзагаде подремонтировались и двинули в горы, на ГурванСайхн. Красота кругом потрясающая, но для жизни места гиблые. Одна только юрта и попалась по дороге. Живет баба с пятью ребятишками, все от разных мужей. Мужики там не задерживаются. Поживет немного, ребенка заделает и свалит куда-нибудь поближе к цивилизации. Недавно по телевизору документальный фильм показывали про гобийских женщин, так у них у всех, оказывается, дети от разных мужей, а мужа ни у одной нет. Вся страна смотрела и плакала. Моя прямо уревелась вся.
Имелась в виду его жена.
– И что дальше? – спросил Шубин.
– А ничего. Будут жить, как жили. И дочери у них так же будут жить и рожать от кого ни попадя. Ничего не поделаешь.
– Я не о том. Поехали вы за этими яйцами…
– Да, они мне кладку обещали нетронутую, а в кладке до сотни штук бывает. Три дня мотались, ничего не нашли. Опять снег повалил, но у меня до сих пор такое чувство, что там ничего и не было. Они же как дети, верят, что если может быть, значит, будет точно, можно считать, уже в кармане. Тут при Цеденбале надумали денежно-вещевую лотерею проводить, наши умники им насоветовали. Что потом творилось, ё-моё! Билеты расхватали, все уверены были, что выиграют.
– Яиц нет, снег повалил, – вернул его Шубин к основной теме. – Чем кончилось-то?
– Ничем, вернулись в Даланцзагад. Сидим день, сидим неделю. Самолеты не летают, машины не ходят, телефон не работает.
– А монголы твои что?
– А что им? Спят, водку жрут на мои деньги. Говорят, летом придем, найдем обязательно. К концу октября еле-еле добрались до Улан-Батора. Звоню Кате. Она уж меня похоронила, а я, видите ли, живой. Виноват, конечно, хотя для нее же старался… Плакать стала. Думаю, поплачет и простит. Ни хрена подобного! Велела больше к ней не показываться. Я не послушался, в Москве пошел с цветами, свитер привез кашемировый, шарф, шапку. Тогда кашемир дешевый был, это теперь цены взвинтили… Она меня выгнала, я опять пришел. На третий раз остался ночевать, но… В общем, не сложилось.
– И ты вернулся в Монголию?
– Ну, не сразу. Я много чем занимался, в дефолт все накрылось. А тут опять Саша. У него в посольстве зарплата маленькая, ему из Монголии литье привозили на продажу. Я с ним прошелся по антикварным, смотрю, цены нормальные, спрос есть. Полетел на разведку.
Он, видимо, утомился последовательным изложением событий и резко перешел к текущему моменту:
– Короче, шестой год здесь живу. Жена у меня из Хар-Хорина, родственники помогли раскрутиться. Я в молодости буддизмом увлекался, «Тибетскую книгу мертвых» прочел еще при Андропове. Кое-что в этом деле смыслил.
Через три месяца после того как он исчез, Шубин справлялся о нем у Гены, когда звонил поздравлять с Новым годом. Гена ответил, что не знает и знать не хочет, этот человек для него больше не существует. До Марика было уже не добраться, к тому времени он сменил все телефонные номера и пропал с горизонта. О его убийстве Шубин узнал из газет.
– Видал, в воротах всякую дрянь с земли продают? – продолжил Жохов. – Я сперва так же сидел, а сейчас у меня доля в магазине. Сам за прилавком не стою, как видишь. Нанял продавцов, работаю с агентами. Они по улусам ездят, скупают вещи. Раньше сам ездил. Туризм у нас на подъеме, за сезон до пяти тысяч баксов заколачиваю. Здесь это много. Столицу перенесут из Улан-Батора, будут все десять.
– Сначала пусть дорогу нормальную сделают, – сказал Шубин. – А то мы четыреста километров целый день пилили.
– Сделают, не беспокойся. Китайцев пригонят, они сделают.
На стене висела картинка в рамке под стеклом, но что на ней изображено, Шубин рассмотреть не мог, пока солнце не двинулось дальше к западу. Стекло перестало отсвечивать, и сердце будто тронули кошачьей лапкой с поджатыми коготками. Этот рисунок он знал всю жизнь.
Луна озаряла мощеную брусчаткой площадь, на ней из ночной тьмы выступал громадный слон с башней на спине, с облупившейся на ногах-тумбах штукатуркой, из-под которой вылезала каркасная дранка. В животе чернело отверстие с уходящей в него приставной лесенкой. Внутри обитали крысы, чья родня погубила другого слона с такой же дыркой в брюхе. Этот олицетворял собой мощь французского народа, взявшего Бастилию, тот – монгольского, свергнувшего власть Пекина. Одиннадцать лет назад перед Белым домом копилась та же сила, но памятником ей стали заводская шестерня и модель автомата Калашникова. Время слонов со спящими в них ребятишками ушло навсегда.
– «Гаврош», – подсказал Жохов.
– Знаю, у меня в детстве была книжка с такой картинкой. Чего ты ее на стенку повесил?
– Долго рассказывать… К жене один здешний лама приходил, она его лечила. Тоже заинтересовался. Я ему объяснил, что двести лет назад этот слон стоял в Париже, на площади Бастилии. Никто уже не помнил, когда его там поставили, зачем, на какие деньги. Лама говорит: «Такие слоны ставят в память о том, как царице Махамайе приснилось, что в нее вошел белый слон, и она после этого родила Будду Шакьямуни». Я говорю: «Это другое». А он мне: «Раз все забыли, почему он там стоит, ему очень много лет. Может быть, предки этих людей были буддисты, а потомки отреклись от них и перешли в другую веру». Словом, – усмехнулся Жохов, – если французы когда-нибудь обратятся в буддизм, ты не удивляйся. Это будет означать, что они вернулись к вере предков.