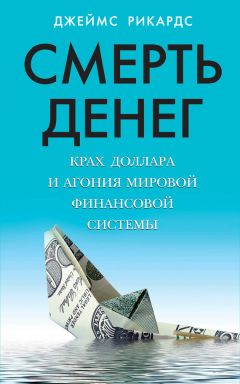– Хочу работать с русскими или с немцами, – говорил он. – Наши – все жулики.
Жена вполголоса сказала Шубину:
– Я читала у одного французского писателя, не помню фамилию, как он беседовал со старым сельским кюре и сказал ему: «Вы всю жизнь исповедуете своих прихожан, вы знаете о них все. Можете ли вы какой-нибудь одной фразой выразить ваше понимание человеческой природы?» Кюре ответил, что да, может.
Шубин молчал, хотя уже слышал от нее эту историю. Ключевая фраза была следующая: «Взрослых людей не бывает». Жена произнесла ее и глазами указала на Жохова с Баатаром. Действительно, всем своим видом они подтверждали правоту старого кюре.
Вчерашняя девушка, оцененная в пять долларов за ночь, принесла большое блюдо с бозами. Жохов на пробу проткнул одну вилкой, из нее брызнул горячий сок. Тридцатиградусную монгольскую водку приобрели по дороге. Шубин расставил рюмки и тарелки, но за стол сели втроем, Баатара вызвал из юрты какой-то знакомый.
– Мне в столовой предложили позвать исполнителя народных песен, я согласилась, – отпив глоточек за встречу, сообщила жена. – Всего пять тысяч за концерт. Он скоро придет.
Суточное проживание в войлочном балагане с дровяной печкой стоило вчетверо дороже, чем любовь прелестной девушки и музыка степей. Как везде, тело и душа здесь тоже сильно потеряли в цене по сравнению со стоимостью площадки, где потреблялся этот товар.
– Я его знаю, – кивнул Жохов. – Дипломант республиканского смотра, между прочим. Поет замечательно.
– Так он, значит, профессионал? – обрадовалась жена, что задешево удалось отхватить такое сокровище.
– Профессионалы – в Улан-Баторе. Он электрик, с моей женой в больнице работает.
Девушка принесла второе блюдо, с мясом. Жохов переключился на него, одновременно рассказывая про рыбу, как ее много в Орхоне и какая она нежная.
– Вообще-то, – добавил он, – ламы запрещают употреблять в пищу существа с глазами без век. В старину монголы не ели рыбу, а теперь едят. У них психология другая, чем у мусульман. Никогда мусульманин не станет есть свинину.
Вернулся Баатар.
– Тот бизнесмен приходил насчет моей карты. Очень хочет, – доложил он Шубину, садясь рядом.
– И что ты?
– Все-таки не стал продавать.
– Правильно, – одобрил Жохов, уже, видимо, введенный в курс дела. – В следующий раз приедешь, продашь за двести.
Баатар был возбужден широким спектром открывшихся перед ним возможностей и проявленной твердостью.
– Мы с ним в машине посидели, – сказал он, – я полкарты отогнул, кое-что показал ему, а продавать не стал. Не торговался, нет. Извини, говорю, сам хочу по икре работать.
Жохов сделал ему знак помолчать и поднял рюмку.
– Предлагаю монгольский тост про три белых. У юноши белые зубы, у старика белые волосы, у мертвеца белые кости. Выпьем за то, чтобы все шло своим чередом.
– Веселенький тостик, – покривилась жена.
– Вы не так поняли. Смысл в том, чтобы умереть не раньше, чем поседеешь.
Баатар с сомнением покачал головой:
– Я такого тоста не знаю.
– Молодой еще. Теперь будешь знать, – отозвался Жохов.
Он царил за столом по двойному праву гостя этой юрты и хозяина всего, что ее окружало. Главная тема разговора определилась быстро – причуды судьбы, которая так странно распорядилась его жизнью. У них на Урале, в поселке при пушечном заводе, где он родился и окончил школу, перед проходной установлена огромная пушка на пьедестале. Ее отлили в единственном экземпляре, собирались везти на Балканы, когда освобождали болгар от турок, но опоздали, а к войне с немцами она уже устарела. В детстве они с ребятами залезали ей в ствол, он полметра в диаметре. Один местный поэт написал: «Как заряд птенцовой картечи, забирались мы в дуло ее». Жохов тогда уже поступил в институт, жил в Москве. Отец прислал ему заводскую многотиражку с этими стихами. Птенцы – это они, пацанята, их там помещалось человека четыре.
– Недавно ночью не спалось, – рассказывал он, – вышел в кухню покурить. Окно открыл – тишина, звезды.
И подумалось, что я вылетел, как картечь, из этой пушки и долетел до Хар-Хорина.
– А выстрелил кто? – спросила жена.
– Не те, о ком вы думаете.
Кто именно, узнать не успели, появился исполнитель народных песен со своим моринхуром. Морин – по-монгольски «лошадь», конская голова украшает гриф этой виолончели, на которой можно играть в седле, уперев ее в переднюю луку и водя смычком по струнам. Звук у моринхура низкий, грубый, шероховато-скрипучий, но временами берущий за душу варварской пронзительностью тона.
Певец был одет в национальный костюм тропической яркости, как артист фольклорного ансамбля. Раньше это попугайское великолепие предназначалось для смотров художественной самодеятельности, ныне – для туристов.
Его пригласили к столу, он из вежливости пригубил водку, съел одну бозу, затем отсел на кровать и стал настраивать инструмент, передвигая туда-сюда крупные деревянные колки. Закончив, замер в картинной позе, со смычком на струнах. За столом он кое-как изъяснялся по-русски, но теперь заговорил по-монгольски, чтобы вступительная речь плавно перешла в музыку и пение. Ясно было, что толмачи найдутся.
– Рассказывает, как монголы любят моринхур, какая это полезная вещь, – начал переводить Жохов. – Бывает, верблюдица после родов не принимает верблюжонка, не подпускает его к себе. Это очень нервное животное. Тогда хозяин играет на моринхуре, и ей делается стыдно, что она такая плохая мать. От стыда она плачет настоящими слезами и дает верблюжонку сосать вымя.
Шубин заметил, что жену впечатлила эта история. Ее больно ранили статистические данные о младенцах, оставленных матерями в родильных домах. Причиной утраты материнского инстинкта она считала разрыв между человеком и природой.
– Сейчас будет исполнена песня «Мать Чингисхана», – объявил Жохов, когда певец замолчал.
Тот сделал глубокий вдох, резко двинул смычок и запел, ведя сразу две партии, как положено при горловом пении, по-монгольски – хуми. Его музой воистину был дух – задержанное дыхание. Лицо у него напряглось, губы вздулись и дрожали, преграждая путь рвущемуся из груди воздуху. Гортань стала пещерой ветров, откуда их выпускали по одному. Протяжные ноты перемежались вскриками, орлиный клекот переходил в жалобу души. Мелодии не было, или Шубин ее не улавливал, но волнение росло, больничный электрик в бутафорском халате пробуждал в нем чувство сродни тому, с каким в горах или под звездным небом радостно отдаешься сознанию ничтожности собственной жизни. Прожитые им самим пятьдесят с лишним лет мало что значили по сравнению с возрастом этой музыки. Песня была ровесницей черепахи у восточных ворот Каракорума.
– Это песня из одного фильма, зимой по телевизору показывали, – на ухо Шубину сказал Жохов и зашептал перевод.
Чингисхан воевал в разных странах, вел войско от победы к победе, но не было дня, когда бы он не вспоминал свою мать и его сердце не рвалось бы к ее золотой юрте, где будущий хаган, великий как море, с материнским молоком всосал любовь к родному народу. Услышав весть о ее смерти, он, даже ребенком не проливший ни единой слезы, плакал как женщина и говорил, что отдаст всю вселенную, только бы жива была та, что дала ему жизнь.
– Помнишь, – шепнул Жохов, – у Ельцина мать умерла, и как раз в тот день отменили референдум?
Хуми странно гармонировало с этим воспоминанием. Рыдание, по кускам выходящее из перехваченного спазмом горла, и царапающий звук моринхура были музыкой той безнадежной весны с ее неотвязным страхом, бессилием, бедностью, угрюмыми толпами в уличной слякоти, пикетчиками у метро, близкими войнами, далеким гулом чужого праздника.
Шубин посмотрел на жену. Для своих лет она выглядела на редкость хорошо. Впервые пришла мысль, что это мутное время продлило им молодость. Еще пара лет, и можно будет вспоминать его с умилением и нежностью. У Бога все времена рядом лежат на ладони, неотличимые друг от друга. «Внимательно наблюдая за вещами, мы можем сказать, что в мире нет даже двух различных вещей», – процитировал Жохов кого-то из дзэнских мудрецов, когда в магазине решали, какую водку взять.
Певец умолк, ему немного похлопали. Он продемонстрировал, на что способен моринхур, извлекая из него голоса разных животных, из которых Шубин не узнал никого, а жена – всех, спел еще несколько песен, чье содержание осталось тайной, поскольку Жохов увлекся мясом с лапшой, и ушел, получив от жены пять тысяч тугриков. Столько же Шубин украдкой сунул ему в руку.
После целого дня на свежем воздухе спать хотелось невыносимо. Деликатный Баатар взял запасное одеяло, пожелал всем спокойной ночи и отправился ночевать в машине. Жохов понял, что третья кровать остается свободной.
– Жена в Улан-Баторе, – сказал он, – что-то домой идти не хочется. Не против, если я тут лягу? Заодно печку буду подтапливать.