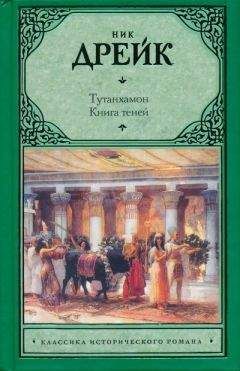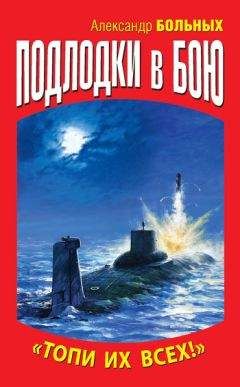Небамон пинком захлопнул дверь, с силой вогнав ее в хлипкую раму. Мы с Тотом смиренно уселись с нашей стороны не особенно опрятного низкого стола, заваленного свитками папируса и кусками пищи и заставленного закопченными масляными светильниками. Крупное лицо Небамона, вечно заросшее черной щетиной, выглядело темнее обычного. Он презрительно взглянул на Тота, ответившего ему бесстрашным взглядом, и принялся гонять по столу документы своими мясистыми ладонями. Его руки не подходили для бюрократа. Он был создан для улицы, а не для возни с папирусами.
Мы с ним избегали разговаривать непосредственно друг с другом, но я старался показать Небамону, что не держу на него обиды за то, что начальником стал он, а не я. Это была не та работа, которой я бы для себя желал, несмотря на разочарование моего отца и желания Танеферет. Она предпочла бы, чтобы я пребывал в безопасности кабинета, — но она прекрасно знает, как я ненавижу быть пленником душной комнаты, погрязшим в скуке и бессмыслице внутриполитической возни. Нет, пусть Небамон все это забирает себе. Однако теперь он имел надо мной власть, и мы оба знали это. Вопреки моей воле, что-то грызло меня изнутри.
— Как семья? — спросил Небамон без особого интереса.
— У них все хорошо. А ваша?
Он неопределенно махнул рукой, словно утомленный жрец, отгоняющий надоевшую муху.
— Что за бардак, — проговорил он, качая головой. Я решил молчать о том, что видел.
— Как по-вашему, кто за этим стоит? — спросил я невинным тоном.
— Не знаю. Но когда мы их найдем — а мы их найдем! — я лично сдеру кожу с их тел, медленно, длинными полосками. А потом выставлю их в пустыню под полуденное солнце, в качестве угощения для муравьев и скорпионов. А сам буду смотреть.
Я знал, что в его распоряжении нет достаточных ресурсов, чтобы хоть одно из этих дел расследовать как положено. За последние годы бюджет Меджаи вновь и вновь урезали в пользу армии, и слишком много бывших меджаев сидели теперь без работы или же нанимались — за лучшее вознаграждение, чем когда-либо получали на прежней службе — личными охранниками к богатым клиентам, оберегать их семьи, их дома или их набитые сокровищами гробницы. Это создало неблагоприятные условия для работы городской сыскной службы. Поэтому Небамон делал то, что обычно делал, сталкиваясь с настоящей проблемой: арестовывал пару подходящих подозреваемых, придумывал на них дело и устраивал показательную расправу. Так протекает правосудие в наши дни.
Он откинулся назад, и я увидел, насколько вырос его живот с той поры, как он был назначен на новую должность. Судя по всему, тучность, подразумевавшая богатую и спокойную жизнь, стала частью его нового «я».
— Давненько вы не выдавали своих больших идей, а? Полагаю, вы пришли разнюхать, не удастся ли и вам поучаствовать в расследовании…
Он посмотрел на меня так, что мне захотелось выйти вон.
— Это не про меня. Я наслаждаюсь спокойной жизнью, — ответил я. Небамон, кажется, обиделся.
— Тогда какого черта вам здесь надо? Осматриваете достопримечательности?
— Сегодня утром я обследовал мертвое тело. Мальчик — юноша — умер при любопытных обстоятельствах…
Но он не дал мне закончить.
— Кому какое дело до мертвого мальчишки! Напишите рапорт, подшейте к делу… а потом, сделайте мне одолжение, ступайте домой. Сегодня для вас здесь ничего нет. На следующей неделе, быть может, я подыщу вам чуток работы, подчистить хвосты, когда остальные закончат. Настало время дать молодым офицерам возможность проявить себя.
Я заставил себя улыбнуться, но это больше походило на оскал разъяренного пса. Небамон это увидел. Он ухмыльнулся, встал, обошел вокруг стола и с насмешливой любезностью открыл передо мной дверь. Я вышел. Дверь захлопнулась у меня за спиной.
Сотни несчастных мужчин и женщин всех возрастов, согнанных во внутренний двор городской Меджаи, кричали о своей невиновности и выкрикивали мольбы или же осыпали друг друга оскорблениями. Многие протягивали все, что только оказалось у них на этот момент, — драгоценности, кольца, одежду, порой даже записку, нацарапанную на обломке камня, — пытаясь купить себе свободу у стражей. Никто не обращал на них внимания. Их будут держать здесь без всяких оснований столько, сколько потребуется. Стражники-меджаи методично и безжалостно связывали запястья и лодыжки тем, кто еще не был связан.
Я прошел через низкий темный проход в тюремный блок и немедленно ощутил горячее, устойчивое зловоние страха. В крошечных камерах пытали закованных в цепи пленников, им выкручивали руки и ноги и осыпали жестокими ударами, в то время как их исповедники спокойно повторяли одни и те же вопросы, снова и снова — так отец мог бы обращаться к лгущему ребенку. Жалобные причитания и мольбы пленников оставались без ответа. Никто не смог бы вынести такой боли — и такого страха перед болью, — и, разумеется, задолго до того, как на свет вытаскивали ножи и их острые лезвия показывали жертвам, те соглашались дать любые показания, какие им скажут.
Я увидел ее в третьей из переполненных камер. Она сидела в темном углу на корточках на вонючей земле.
Я вошел в клетку. Пленники испуганно расступались передо мной, словно я мог их пнуть. Девушка сидела, опустив лицо, так что его скрывали черные волосы. Я остановился перед ней.
— Погляди на меня.
Когда пленница подняла голову, то нечто в ее лице — то ли гордость, то ли гнев, то ли его неожиданная молодость, — меня тронуло. Мне захотелось узнать ее историю. Я чувствовал, что на девушку обрушилась какая-то несправедливость, из тех, что способны исковеркать целую жизнь.
— Как твое имя?
Она хранила молчание.
— Твоя семья будет тосковать по тебе.
Она слегка обмякла. Я опустился на колени рядом с ней.
— Зачем ты это сделала?
По-прежнему нет ответа.
— Ты ведь знаешь, что здесь есть люди, которые заставят тебя сказать все, что захотят?
Ее начала колотить дрожь. Я знал, что должен о ней доложить, — но в этот момент понял, что не смогу этого сделать. Не смогу отдать эту девушку заживо в руки мучителей. Иначе я не смогу жить с самим собой.
Она отвернулась от меня, ожидая решения своей судьбы. Я молча смотрел на нее. Что делать?
Грубым жестом я поднял ее на ноги и вывел из камеры. Меня достаточно хорошо знали, и мне не было нужды показывать стражникам какие-либо бумаги. Я попросту кивнул им, словно говоря: «Она моя». Толкая девушку перед собой, я провел ее по зловонному проходу.
Мы свернули за угол, в мой кабинет, и тут она, опасаясь худшего, начала яростно вырываться.
— Успокойся и веди себя тихо, — настойчиво прошептал я ей. Быстрым движением я перерезал веревки, связывавшие ее руки и ноги. Ее лицо озарилось выражением благодарного изумления. Она была почти готова заговорить, но я жестом велел ей хранить молчание. Намочив тряпку в кувшине с водой, я как мог вытер девушке лицо, одновременно задавая вопросы.
— Говори тихо. Кто приказал сделать то, что вы сделали?
— Никто не приказывал. Мы действовали самостоятельно. Кто-то должен выступить против несправедливости и порочности этого государства!
Я покачал головой, удивляясь ее наивности.
— Неужели ты думаешь, что, бросаясь кровью в царя, можно что-то изменить?
Она поглядела на меня с презрением.
— Ну конечно же, можно! Разве прежде у кого-то хватало храбрости отстаивать свое мнение? Люди не забудут этого жеста. Это только начало.
— И за это ты была готова умереть?
Она кивнула, убежденная в своих идеалах. Я покачал головой.
— Поверь мне, твоя настоящая цель — вовсе не этот мальчик в золотых одеждах. Существуют другие, гораздо более могущественные люди, заслуживающие твоего внимания.
— Я знаю, что на этой земле творится во имя справедливости, что делают люди, обладающие властью и богатством. А вы? Вы служите в Меджаи. Вы тоже часть той же проблемы!
— Ну, спасибо. Почему ты это делаешь?
— Почему я должна вам отвечать?
— Потому что если ты не ответишь мне, я не сделаю того, что намереваюсь, — не отпущу тебя на свободу.
Она изумленно воззрилась на меня.
— Мой отец…
— Продолжай.
— Мой отец был писцом в канцелярии у прежнего царя. В Ахетатоне. Когда я была маленькой, отец перевез всю нашу семью в новый город. Он говорил, что новый режим дает ему шанс выдвинуться и добиться прочного положения. И казалось, так оно и было. Нам жилось хорошо. У нас были все те красивые вещи, которые он мечтал нам подарить, было немного земли. Однако когда все рухнуло, нам пришлось переселиться обратно в Фивы, ничего не взяв с собой. Его лишили работы, земли и всего, чем он владел. И это его сломало. А потом однажды ночью в дверь постучали. И когда он открыл, там его ждали солдаты. Отца заковали в кандалы. Нам даже не позволили поцеловать его на прощание. И его увели. И больше мы никогда его не видели.