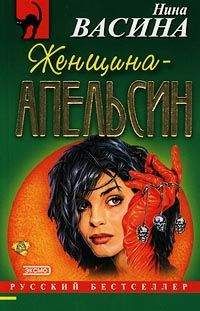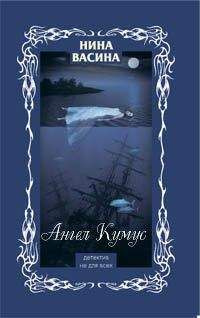– И не собирался! – орал Корневич. – Я к ней с определенным подходом, поразить хотел. Слышал, как я ее сразу подготовил: Скуверт! Я фамилию шведа прочел, как участковый с незаконченным средним: латинские буквы русским звучанием. Сначала изобразил милицейского дебила, а потом стал читать стихи! Она на меня уставилась, думал – в ноги кинется, я ведь хорошо читал. А она спокойно встала, взяла свою сумочку и с улыбочкой так медленно, спокойно – шарах! Какой бог меня охраняет, не знаю: я с ночного дежурства совершенно случайно оказался в бронежилете. А представь только, что с нею остался ты! Голенький! Валялся бы сейчас тут дохлый! – Корневич показал пальцем на ковер. Хрустов поднял указательный палец, достал из холодильника томатную пасту. Банка была открыта, верхний слой покрылся плесенью, Хрустова шатало от усталости, он сел и тщательно размешал в стакане пасту с водой.
– Сморкался на ковер?
– Ну сморкался! Я еще и народным языком ей объяснял, кто она такая есть и что с ней надо сделать, и спокойно пережила, не дрогнула. А когда я перешел от конкретики к лирике!.. Ты только посмотри, она ведь точно в сердце целила, – он потряс бронежилетом.
– Я едва услышал, подумал, что она тебя – из твоего пистолета. Ты на звонки не отвечал, я ехал прощаться. А потом такое облегчение наступило, честное слово. Привык я к тебе, майор, оказывается.
Корневич поднял табуретку и тяжело сел, принявшись выковыривать пулю.
– Коньяк хлещешь, сволочь, беседу ведешь, а я там чихнуть боюсь! – Он щелкнул пальцем по бутылке и отпил из горлышка.
– Да ладно, сопел, как крот! – Хрустов сходил в комнату, вылил густой томатный сок на ковер, растер его рукой и тщательно вымыл стакан. – Хорошо еще, что такая истеричка попалась. Вера – та поспокойней, я все боялся, что она очнется, рассмотрит тебя или раной поинтересуется. – Хрустов разлил остатки из бутылки по рюмкам, задумчиво посмотрел на Корневича. Голый по пояс, тот бросил бронежилет на пол и вытирал лицо грязным носовым платком. Они выпили молча, потом Хрустов поинтересовался, знает ли Корневич японский.
– Только романские языки! – заявил майор. А когда Хрустов нахмурил брови, обдумывая ответ, пояснил: – Немецкий, французский и английский, а в чем дело?
– Красивый язык этот французский, – покачал головой Хрустов, – по-английски ведь наверняка было бы просто трахнутое дерево, так? Ну-ка скажи! Скажи про дерево, потерявшее девственность.
– Конкретно про вишню? – поинтересовался заплетающимся языком Корневич. – Давай я тебе скажу лучше, отчего умер швед. Диабетическая кома. А теперь – стихи!
Близнецы проснулись, как всегда, в половине седьмого. Ева слушала возню в соседней комнате, потом дверь приоткрылась, они подбежали к ее кровати, шлепая босыми ножками, заползли, уселись и стали осторожно трогать лицо, шею и руки.
– Вы замерзли. Лезьте под одеяло, – прошептала она, не в силах открыть глаза.
– Откуда я без трусов? – поинтересовался маленький Сережа, зажигая ночник.
– Ну-ка говори быстро, откуда ты такой? – Ева поймала визжащее тельце и проснулась.
– Соломи его! Соломи! – прыгала маленькая Ева. – Изигуда покышка!
– Перестань так разговаривать! – Ева погрозила девочке пальцем.
– Не ану! Закуда!
– А Муся уходит, – Сережа пытался встать на голову, закидывая вверх согнутые ножки. Он говорил удивительно чисто. Ева придержала его спинку и посмотрела на Еву-маленькую.
– Пипуха чуханая-я-а-а! – заныла та вдруг, немедленно обнаружив на длинных ресницах тяжелые слезинки. – Не очу!
Вошла Далила в длинной ночной рубашке.
– Ну ты, пипуха, опять бузишь? – Она легла рядом с Евой и посадила девочку на себя. – Куширла локо? – спросила она. Ева-маленькая перестала плакать, сползла на пол, цепляясь за кружева рубашки.
– Да! – кричала она, отшлепывая начало дня звонкими пятками. – Да! Да!
– Вы что тут теперь все так разговариваете? – осуждающе уставилась на Далилу Ева. – Прекрати немедленно, ты же сама говорила, что не надо ей потакать!
– А пол любит голые пятки? – поинтересовался Сережа.
– А что я сейчас сказала? – Далила помогала слезть мальчику.
– Ты спросила, хочет ли она молока. Но зачем так?
– А как ты поняла, что я сказала?
– Не знаю. Что-то такое, потом – «локо». По созвучию, наверное.
– Слушай меня. У нас сплошной каверлак завелся и горюха, пока тебя не было. Пока ты бузонила по тверлыкам. Кстати, где ты ночью швырлилась?
– А ты запоминаешь все эти слова или просто так с ходу придумываешь? – Ева повернулась на бок и подозрительно осматривала припухшее ото сна лицо рядом.
– Иногда я записываю то, что говорит девочка, – зевнула Далила. – Пипуха, кстати, – это ласкательно-ругательное.
– Сколько тиков? – спросила Ева, потягиваясь.
– Почти семь.
– Что у вас случилось? Что это за каверлак и горюха?
– Найди время. Нам нужно поговорить.
В коридоре – сопение и визги. Пятясь, в комнату вползла Ева-маленькая, она из последних сил тащит на себя мягкую зеленую гусеницу. За гусеницу прицепился Сережа, он еще в коридоре, его не видно. Девочка не выдерживает, выпускает игрушку из рук и падает на спину.
– Зюка куханая! – визжит она и стучит кулачком в пол.
– Не смей ругаться! – повышает голос Далила.
Выходит Илия, его глаза закрыты, он нащупывает на полу Еву-маленькую, берет на руки и говорит, прижимая к себе:
– Не плачь, латушечка, пошли поищем исуню.
– Вы все тут с ума посходили? – возмутилась Ева. – А меня только два дня не было! Куда он потащил ребенка? – Она, не веря, поворачивается к Далиле, потом в ужасе наблюдает, как длинный подросток выходит на балкон с девочкой на руках.
– Не мешай. Они исуню ждут.
– Что это такое – исуня? – Ева срывается с постели и, ухватив за пижаму, вытаскивает Илию с балкона. Он укоризненно замечает, что ему мешают проводить с ребенком оздоровительные воздушные ванны. Ева выходит в темноту, обжигая ступни холодом балконной плитки. Перед ней светится утренними окнами город, ледяной ветер взметает волосы, она закрывается рукой, задохнувшись. Зима. Не день и не ночь, а только перепутавшая время зима – никакого намека на исуню. До исуни еще месяца два.
– Останься дома, – говорит Илия, заметив, что Ева торопливо собирает сумку, – я сам отведу малышню в ясли.
Близнецов вторую неделю отводили в частные ясли до обеда. Для общего развития и налаживания контактности, как заметила Далила. Ева точно не знала, помогла ли группа в семь человек общему развитию близнецов, но насчет контактности все было ясно: трое воспитательниц уже стонали – все дети заговорили на непонятном языке.
– Я отведу, – Ева выглянула из комнаты и увидела, что дети, сопя, сами одеваются в прихожей, а Илия непостижимым образом уже одет.
– Нет уж, ты останься. Тебе же сказали: проблемы у нас. Останься. Отключи свой телефон и поговорите втроем. Если чего не поймешь, я приду через час – разъясню.
Ева нашла глазами глаза Далилы. Та отвернулась и закрыла лицо рукой.
– Что, так серьезно? – Ева села на кровать и отвела руку. Далила молча плакала.
– Не плачь, – громко сказала Муся, появляясь в дверях комнаты, – а то уж и я зареву! Когда ты плачешь, у меня сердце переворачивается.
– Эй, девочки, да что происходит?! – повысила голос и Ева.
– Уезжаю. Спасибо вам, – Муся подошла к кровати, встала на колени, удержавшись рукой за спинку, наклонилась и взялась рукой за ступни Евы. Ева оцепенела. – Спасибо тебе за доброту и доверие, Ева-красавица, – она склонилась еще ниже и приложилась лбом к ногам, Ева дернулась, – ты мне детей своих доверила, я люблю их как родных. И тебе, Далила-умница, – Муся приподнялась и поцеловала Далиле руку, та заплакала в голос. – Ты мне поверила сердцем, а по учености своей не должна была. Ну вот, я все сказала, а вещи уже собраны, – Муся села на пол, расставив ноги в стороны, и уставилась в пол.
– Маруся, не уходи, – прошептала Ева. Она решила ничего не выяснять, а пока просто уговорить женщину остаться. Потом разберется. – Я к тебе приросла внутренностями. Ты детей моих вскормила. Не уходи, мы ведь родные уже!
– Пришла я к вам прямо из своей беды, – начала Маруся-Муся, покачиваясь, – у меня тогда как раз первый ребеночек умер, я, если бы к себе деточку какую-нибудь не прижала, и грудью бы воспалилась, и умом повредилась. Люшка нашел меня на вокзале, я никуда из вокзала не отходила, потому что больше туалетов не знала в Москве, а сцеживаться надо было раза по три-четыре. Вы мне поначалу показались дурными – кто же чужих детей берет, да еще сразу по двое, не умея запеленать правильно?! А потом я ничего, приняла вас, потому что вы добрые и не жадные. На еду не жадные, на деньги и на доброе слово. Только так теперь получается, что надо мне уходить. Пришла пора. Нельзя моему ребеночку оставаться с вашими. Злой он. Он нас всех пересилит и мир сожжет. Нельзя.