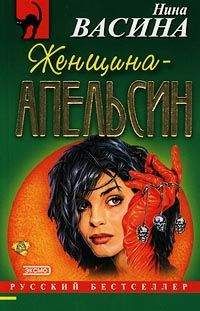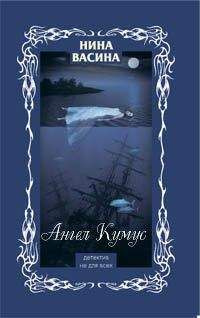– Что с твоим ребеночком? – прошептала Ева. – Он болен?
– Я любую болезнь заговорю и вылечу. Нет, он не болен.
– Он не ходит до сих пор, я думала, это болезнь, – Ева с трудом подняла сопротивляющуюся голову Маруси и попыталась заглянуть ей в глаза. На нее глянули бездонные голубые озерца боли. – Ты же сказала, что сама разберешься?! Я же предлагала врачей, любое обследование, – ты сказала, чтобы тебя и его не трогали!
– Не болезнь это, – Маруся убрала руку Евы и задержала в своей, – когда захочет, он пойдет. Когда захочет – заговорит. Он пока не хочет, так ведь это и к лучшему. Ты суетливая очень, не видишь ничего рядом.
– Чего я не вижу?!
– Скажи ей ты, я по-научному не умею, – кивнула Муся Далиле.
– Чего тут говорить. Наука здесь ни при чем, – Далила встала, вытерла щеки и подошла к сидящей Мусе. Глядя на Еву, она расстегивала шерстяную кофточку, а потом бюстгальтер кормящей матери с пуговицами впереди, – смотри сама и делай выводы.
Ева дернулась, зажимая рот ладонью, чтобы не крикнуть: соски Муси были словно изжеваны, зажившие раны темнели кровоподтеками чуть выше по груди, свежие – сочились сукровицей, смазанные какой-то мазью. Ева сглотнула и вдруг почувствовала, что сейчас тоже заревет. Она помнит эту большую красивую грудь, с тех пор как Муся появилась рядом с нею и детьми. Она помнит, как маленькая сытая Ева играла с розовым соском и строила ему глазки, как счастливо засыпал сытый Сережа, собственнически уложив растопыренную ладошку на нежнейшую кожу с прожилками, она помнит запах – переевшие дети срыгивали, и этот запах чужого лишнего молока был запахом жизни.
– Это… Это делает твой мальчик? – прошептала Ева, зажмурив глаза и не в силах смотреть. Теплые слезы потекли по щекам.
– Ну, сейчас все заревем, – застегивается Муся.
– Зачем ты его кормишь так долго? Ему ведь уже больше двух лет! Сколько ему? – Ева нервно хватает Далилу за руку. – Сколько ему? Почему она до сих пор не говорит, как его зовут? Конечно, у него зубы уже! Он Мусю кусает, потому что зубы режутся!
– Он меня грызть будет столько, сколько захочет. И молоко у меня будет прибывать столько, сколько он захочет его пить. – Муся поднялась с пола, вынула шпильки из волос, и Ева заметила седые пряди.
– Маруся думает, что ее сын – дьявол, – глухо произнесла Далила. – Она не хочет, чтобы он жил рядом с нашими детьми. Она боится. Она одна хочет отвечать за все, что он сделает.
Боль в глазах Евы сменилась ожесточением. Прищурившись, Ева оглядела сначала Марусю, заплетающую косу и укладывающую ее на голове, потом Далилу, потерянную и зареванную.
– Ну вот что, подружки мои сердечные. Вы тут совсем без меня свихнулись? Неси ребенка! – кричит она вдруг. Маруся дернулась и уронила шпильку.
– Не надо, – тихо просит Далила.
– Чуть что – орать. Привыкла, конечно, на работе главная теперь, звание получила, – бормочет Маруся и заново укладывает волосы.
– Ребенка неси, я сказала! Я вам покажу дьявола! Что она читает? – Ева бросилась к телевизору в большой комнате. – Что она смотрит? Это – чье? – в ноги Далиле полетели кассеты: разинутый в крике рот, скрещенные ножи, крест, надпись «Омен». – Ты хочешь, чтобы она не свихнулась, просматривая такие фильмы? У нее молоко течет уже три года, кто хочешь умом тронется с таким кино! Кто читает «Парфюмер»?! Кто читает Кортасара? – кричит Ева, скидывая на пол книжки с полки у телевизора.
– Кеша читает «Парфюмер», а я читаю Кортасара, – Далила остановилась в дверях, сложив руки на груди. – Перестань орать, пожалуйста. Все серьезней, чем ты думаешь. Поговори с Илией.
– Да работать надо, книжки нормальные читать, спать больше, гулять, а телевизор вообще разбить!
– Разбей это все! – Далила разводит руки в стороны и кричит: – Мир – это только то, что ты видишь и трогаешь, разбей предметы, занавесь окна. Ты не можешь ее понять, потому что все время ходишь рядом со смертью. А для нее смерть – это конец, понимаешь? Для тебя – начало, а для нее – конец. Она робеет перед смертью, а ты убиваешь за деньги, – закончила Далила почти шепотом.
– Ну и кто тут дьявол? – зловеще поинтересовалась Ева. – Здесь одна смертельная угроза – это я, а детям нельзя смотреть порно, надеюсь, это понятно? Нельзя человеку смотреть это , пока он это не делает!
– Здесь нет никакого порно.
– Эти кассеты и твои книжки – это чистая порнография смерти. Нельзя неподготовленному человеку касаться такого. Нельзя подростку читать «Парфюмер»! Нельзя кормящей матери смотреть, как младенец кого-то убивает!
– Не ругайтесь, – Маруся появилась неслышно с ребенком на руках, – ты как дома бываешь, так или орешь, или спишь.
– Почему, – завелась Ева, – я иногда для разнообразия стираю, играю с детьми в перерывах в стрельбе, готовлю еду, позавчера суп сварила и курицу запекла с лимоном, по-моему, тебе понравилось. – Она подошла к Марусе, продолжая говорить, взяла под мышки черноволосого кудрявого мальчика и потянула к себе. Мальчик вцепился в кофту Маруси и отвернулся, прижавшись головой к шее матери. – Я еще по вечерам иногда песни детям пою, – сказала Ева, сглотнула, успокаиваясь, и стала говорить тише и медленнее: – На лугу гуляет лошадь очень редкой красоты, лучше нам ее не видеть, лучше нам ее не слышать, лучше нам ее не трогать, я так думаю, а ты?
Мальчик поднял голову и посмотрел искоса. В черноте радужной оболочки терялись зрачки.
– Если эту лошадь тронуть, столько вдруг произойдет!.. – Цепкие пальцы отпустили кофту, рот приоткрылся. – Солнце в омуте утонет, ракушка себя зароет, – Ева забрала к себе мальчика, уставившегося на ее рот, – и волчица вдруг завоет, и багровый снег пойдет. Мы не тронем эту лошадь, мы не слышим эту лошадь, мы не будем и смотреть, эта лошадь – это?..
– Смерть, – отчетливо произнес мальчик в полнейшей тишине.
Маруся схватилась за грудь слева, Далила побледнела, Ева осторожно села, прижав к себе ребенка. Он вцепился ей в руки сильными пальцами.
– Он разговаривает! – Далила протянула руки к Марусе.
– Лучше бы он молчал, – перекрестилась Маруся. – Прости, господи, за его первое слово, прости неразумное дитя.
Ева, сжав зубы, смотрела, как из-под маленьких ногтей, проткнувших ей кожу, выступает кровь. Она с силой отцепила одну ручку и поднесла к лицу, разглядывая. Мальчик засопел и дергал рукой с растопыренными пальцами, стараясь достать близкую щеку. Еву поразили его ногти: твердые и острые, словно подточенные злым маникюрщиком.
– Пойдем мы, что ли? – Маруся неуверенно приблизилась к дивану и протянула руки сыну. Теперь он вцепился в одежду Евы, не желая уходить.
– Нет, – сказала Ева, отдирая его вторую руку, – подождем Илию. Я хочу знать, что он скажет. Я не отпущу тебя без него. Он тебя привел, пусть он тебя и уводит. – Ева смотрела, не двигаясь, как Маруся забрала ребенка и уносит его, дергающегося и воющего, защищая лицо от острых ногтей. – Я знаю, что ты ходила с Мусей к психиатру, – она глазами нашла застывшую у окна Далилу. – Как давно это у нее началось?
– Что именно?
– Такое отношение к ребенку. Такая болезнь.
– Подождем Илию.
– Ты же медик в какой-то степени!
– В какой-то степени, – вздыхает Далила.
Они слушают, как входит в квартиру Илия, как возится он в коридоре, вот он уже стоит в комнате, потирая замерзшие руки.
– А, мамаши, переживаете? И зря. Все нормально. Я понимаю, конечно, что труднее всего сейчас вам объяснить, что на самом деле все нормально. Все так и должно быть. Будем есть?
– Что тут нормального? – не выдерживает Ева его спокойной улыбочки. – У Маруси от постоянного трехлетнего притока молока мозги повредились, она никому не показывает ребенка, не дает ему играть с двойняшками, спит с ним в одной кровати и не спускает с рук, а потом объясняет все это мистическим бредом!
– Слушай, я попробую тебе объяснить, но в кухне. Муся! – кричит Илия. – Пойдем чай пить.
– Может, поговорим здесь? – Ева не знает, как разговаривать при Мусе.
– Вот твоя ошибка номер один. Когда ты в лесу садишься под кустик по-маленькому, ты стесняешься этого кустика? – Илия ставит чайник и достает тарелки со вчерашними бутербродами.
– Какой кустик, в чем дело вообще?
– Люшка меня очень любит, – улыбается Маруся, усаживаясь на свое место в самый угол.
– Маруся – она всегда и везде, как кустик, как воздух, – кивает Илия. – Что у тебя с руками?
Ева прячет руки под стол и сообщает тихо:
– Люди, я вас очень люблю, но жить в таком дурдоме не могу.
– Да ты и дома-то не бываешь, – замечает Далила, занявшись заварным чайником.
– Бываю – не бываю, но вы – все, что у меня есть.
– Да ты не нервничай, мамочка, – Илия достает ее руку, кладет на стол и гладит.