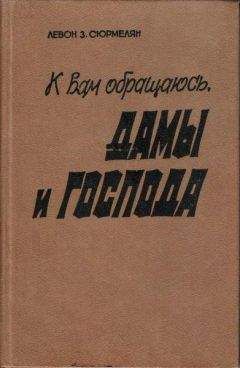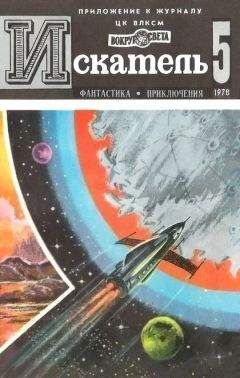Налбандов отбросил бурку, поднялся, вышел из шалаша. Вокруг в лунной ночи все было белым, рельефным и трескучим. Он начал прыгать на месте, потом побегал вокруг шалаша, но согреться не мог.
Налбандов вспоминал, как потемнело лицо Пименова, когда он признался директору, что взял номер в «Украине» по паспорту Урушадзе. Он никогда, не видел у Пименова такого лица — за все пять лет, что проработал на фабрике.
«Зачем же ты эдак, сынок? — спросил тогда Пименов после долгой-долгой паузы. — Я ведь тебе говорил, что тот паспорт беречь надо на самый крайний случай. Баба, что ль? Или решил погулять?»
Налбандов сказал, что познакомился с женщиной, «красавица женщина, блондинка с голубыми глазами, товару в ней через край, не тащить же ее в «Турист», в трехкоечный номер! На один день взял «люкс», а тут встретил этого гада, он же мне точно пообещал «Волгу», при мне из автомата звонил Григорию Васильевичу, просил зайти ко мне в «Украину», чтобы обо всем договориться. «Ему тысячу приготовь, — сказал Виктор, — и еще надо будет тысячу передать директору магазина. Пойдем куда-нибудь, надо написать заявление, чтобы тебе позволили купить именно мою машину. Или ладно, у тебя напишем, только возьми лучше коньяку в магазине, зачем переплачивать ресторанную цену?» Вот и переплатил. После третьей рюмки отключился. Как же он мне всыпал снотворное, изверг? Ведь я сам купил коньяк. Точно, в его бутылке эта гадость уже заранее была. То-то я обратил внимание, что та бутылка, которую он достал из своего портфеля, была без фабричной пробки. Он еще объяснил, что это прямо с завода, десятилетней выдержки. Наверное, он себе наливал из моей бутылки, а мне — из своей. Точно, он ведь просил меня воды похолодней принести. Я в ванную ушел, а он в это время налил мне отравленного коньяка, мерзавец! А еще кричат: «Милиция, милиция, советская милиция!»
Налбандов даже споткнулся, когда осознал до конца то, о чем он только сейчас говорил себе. Он тихо засмеялся: «Вор у вора украл…» Он даже сел на землю — от смеха. Он боялся громко смеяться в этом пустом, трескучем, громадном лесу.
«Будь я проклят. — Он вздохнул, почувствовав, что начал согреваться. — Будь я трижды проклят. Сам во всем виноват. Как Степику в глаза посмотрю, если будет суд и меня в зал введут конвоиры — бритого наголо, без галстука и без ремня?! Как я посмотрю ему в глаза? Как я объясню ему, что не корысть руководила мною, а желание во всем быть, как он; чтобы не позорить его своим запыленным, засаленным, старым костюмом и крикливо-цветастыми носками, чтобы он не говорил друзьям: «Познакомьтесь, это Павел», — а чтобы ему было приятно представлять своим товарищам, тоже артистам и балеринам, старшего брата, видного горного инженера, «который вот на своей «Волге» завез меня позавтракать», и вообще чтобы одиннадцать месяцев унылого прозябания в Пригорске можно было компенсировать хотя бы месяцем раздольной жизни возле тебя, мой талантливый и любимый младший брат Степик. Никак я ему этого не объясню. Лучше умереть, чем доставить Степику такое горе. Если меня арестуют, его жизнь тоже будет сломана. Нет, такое не имеет права быть. Я, мерзавец, захотел того, что мне богом не отпущено, а Степику за что страдать? За то, что его брат дурак? Пусть меня Пименов куда-нибудь в геологическую партию устроит года на три, надо скрыться, время все спишет. А если не спишет? — возразил он себе. — Тогда как? На все пойду, до конца дойду, любое дело сделаю, только б не тюрьма. Не за себя ведь боюсь, да и кто за себя в наш век боится? За детей боятся, за любимую, за родителей. А у нас во всем мире никого нет: только Степик и я. На все пойду, на все», — повторил он и снова начал бегать по лугу, чтобы согреться как следует. Трава была схвачена заморозком и казалась сейчас декорацией из детской сказки, которую они со Степиком смотрели в ТЮЗе много лет назад — так давно это было, что и вспоминать нельзя: дышать тяжело, и слезы закипают.
КАК ПОРОЙ ПОЛЕЗНО ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ
— Садитесь, Кешалава.
— Вы передали мое письмо прокурору?
— Конечно.
— Ну и каков результат?
— Я вам отвечу. Только сначала позвольте мне задать вам ряд вопросов.
— Моя просьба не носит противозаконного характера, и вы должны ответить мне. В ином случае я откажусь разговаривать с вами до тех пор, пока сюда не будет вызван представитель прокуратуры.
Костенко подумал, что на то время, пока он будет препираться с Кешалавой, стоит остановить диктофон, но потом решил выключить его совсем, потому что сегодня следовало разыграть иную партитуру допроса, предложив Кешалаве подписывать каждый его ответ в протоколе. Здесь магнитофонная запись не нужна — для очередной стычки в прокуратуре во всяком случае. Прокурор, у которого Костенко побывал сегодня, отказался дать санкцию на продление срока задержания Кешалавы.
«Товарищ полковник, — сказал прокурор, — вы отлично понимаете, что улик не хватает. Интуиция — вещь, бесспорно, интересная, но к закону неприложимая. Давайте научимся сами уважать закон даже в мелочах, давайте научим этому всех людей в стране, это лучшая гарантия и для нашей спокойной старости, и для юности наших детей».
Возразить было нечего, к тому же прокурор говорил именно то, с чем Костенко был принципиально согласен, и тем неприятнее было Костенко выслушивать все это от другого человека — тут у кого угодно испортится настроение.
Начальник управления, ознакомившись с доводами Костенко, позвонил заместителю генерального прокурора, но тот, выслушав просьбу комиссара, отказался дать немедленный ответ.
— Я должен посмотреть материалы и вызвать начальника отдела, — сказал он. — Вы же сами говорите, что улики не закольцовываются в логическую систему. Может быть, вы попросите ваших сотрудников написать более расширенное и мотивированное обоснование?
— Дело очень горячее. Посажу я их объяснение писать, а работать кто будет?
После разговора с прокуратурой комиссар пригласил представителей всех служб, принимавших участие в «автомобильном деле», которое за последние дни так разрослось, что пришлось подключить людей из УБХСС, и попросил Костенко подробно изложить положение не просто на сегодняшний день, а на последний час. Он долго выслушивал разные точки зрения (полковник Курочкин предложил выделить всех фигурантов дела — Кешалаву, Налбандова и Пименова — в отдельные разработки; с Курочкиным не соглашался майор Родин, поддерживавший Костенко, который был убежден в том, что растаскивать это дело по разным людям ни в коем случае нельзя) и принял половинчатое решение: до тех пор, пока не будет готова экспертиза УБХСС по Пригорской фабрике и пока не обнаружен Налбандов, дело «по страничкам» не расшивать, однако он еще раз подчеркнул — «пока» и на этом совещание закончил, пообещав Костенко тем не менее попробовать переговорить с заместителем министра по поводу продления срока задержания Кешалавы.
Но до сих пор от комиссара никаких сигналов не было, и Костенко, в упор разглядывая Кешалаву, решил провести «массированное» наступление на этого парня. Он почему-то был убежден, что это «массированное» наступление принесет свои плоды.
Костенко не спешил начинать допрос Кешалавы. Он исподлобья приглядывался к арестованному, неторопливо затягиваясь сигаретой, высушенной в духовке газовой плиты. Так подсушивать сигареты его научил майор Ганов, когда несколько лет назад, еще на Петровке, 38, комиссар перевел Костенко «за неуживчивость характера» из группы по борьбе с бандитизмом в отдел, занимавшийся «малолетками» — преступностью среди несовершеннолетних. Кто-то из высокого начальства сказал тогда, что именно эта проблема сейчас самая важная, и немедленно был создан отдел, на который сразу же повалились все шишки. Как всегда, Костенко полез в спор. «Наивно же все это, — говорил он тогда, — зачем мы в формализм уходим, товарищ комиссар? Сейчас военное поколение, безотцовщина… Я тут схемочку набросал; смотрите, что получается: чаще всего проходят преступники сорок пятого года рождения, реже — сорок восьмого. Подростки пятнадцати-семнадцати лет. У них сплошь и рядом в графе вместо имени отца прочерк. И только в этом году их с матерями из подвалов перевели в новые дома. Надо в школах, в ремесленных училищах, на заводах работать, детский туризм развивать, хороших книг навыпускать больше, бассейны строить». Комиссар тогда шутливо предложил Костенко подать в отставку из-за несогласия с начальством, но Костенко, не удержавшись, хотя Садчиков жал ему под столом ногу, ответил: «Я бы с радостью, товарищ комиссар, не будь у нас преждевременные отставки такими позорными».
Комиссар, как всегда, хмуро поругал Костенко за якобинство, но глаза у него при этом были грустные и ругал он совсем не вдохновенно, а как бы соглашаясь с Костенко в главном, не принимая лишь его «разнузданного вольнодумства».