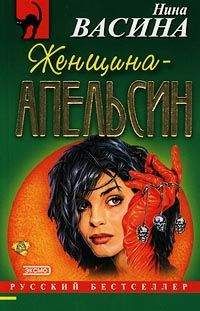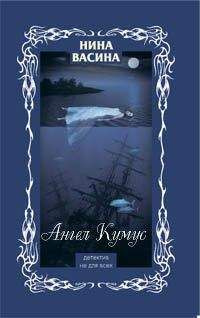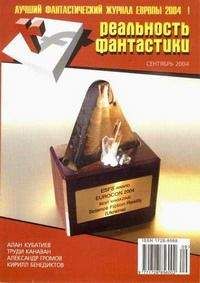Клиент, как говорится, готов. Он обеспокоен длительным отсутствием Су, он выпил весь кофе и, выпучив глаза, завороженно слушает по радио новости. По его обалдевшей физиономии я догадываюсь, насколько трудно понять иностранцу весь этот бред, эти постановления о категорическом местонахождении на рабочем месте в рабочее время, эти интервью счастливых женщин, которые непостижимым образом успевают строго в обеденный перерыв посетить и парикмахерскую и магазины, эти устрашающе-вкрадчивые объявления об увольнениях опоздавших на работу больше чем на семь минут, а чего стоят горячие репортажи с посевной! Он неуверенно улыбается, как человек, который все слова в отдельности перевел, но поверить в получившийся бред не может.
Я все еще взвинчена и нервно интересуюсь, где же это Су познакомилась с таким обаятельным мужчиной? Дални многозначительно хмыкает и достает пачку фотографий. Су садится на ручку его кресла. На всех фотографиях – Су. Она смеется на фоне замков и фонтанов, у автомобилей, рекламно-ненормальных, как все «там». Су всегда улыбается, когда ее фотографируют. На детских снимках шестилетка Су трагично-грустна, девятилетка Су насмешливо-ехидна – чуть прищуренные глаза уже осознающей свою красоту стервы и неуверенно приподнятый уголок рта, а вот лет с двенадцати рот ее радостно открыт в застывшем смехе.
Цветные осколки от поездки Су во Францию сыплются сначала на толстые колени Дални, потом на ковер. Я рассматриваю, пользуясь случаем, пухлые пальцы, небольшую лысину, очки в тонкой оправе, тут он поднимает голову, и я вздрагиваю от растерянного незащищенного взгляда. Он почувствовал неладное, осторожно косит сбоку на Су. Су расслабилась, успокоилась и ведет себя вполне естественно: она склоняется к Дални и внимательно его обнюхивает, прикрывая иногда глаза для лучшего усвоения запаха. Я улыбаюсь:
– Вы не волнуйтесь, это Су вас обнюхивает.
Он неуверенно улыбается, встает и оглядывается вокруг. Наклонившись, заглядывает под стол и под кресло.
– Что-нибудь не так? – Я тоже наклоняюсь и смотрю на него снизу. Он достаточно высок, что скрадывает полноту.
– Так-так. Это я сделал поиск! Су – это кошка?
– Су – это я! – Су потягивается и встает. – Это половина моего имени.
– А кто есть Анна?
– А это вторая половина моего имени. И обе вместе – это я.
Она уходит на кухню, мы провожаем ее глазами, потом смотрим друг на друга. Дални чуть улыбается и поправляет очки указательным пальцем, я киваю в сторону кухни:
– Вы остаетесь?
– О да! Анна – прелесть. Это… Она такая не-под-следственная. Я правильно говорил?
Я киваю, не сводя с него глаз:
– Будем надеяться.
Я ухожу. Мне здесь нечего делать: он обаятельный, восторженный, одним словом – «добрый и толстый парниша». Радостно сообщил, что неплохо говорит по-русски и с удовольствием попрактикуется в разговорной речи. Он искренне предлагал мне остаться и поужинать вместе, потому что у него много «съедобности» и еще потому, что я – «тоже умрупочтительная…». Я ограничилась скромным советом не употреблять сложных прилагательных.
Капитан госбезопасности Виктор Хрустов полулежит в кресле, закинув ноги на журнальный столик, и лениво просматривает бумаги из тонкой папочки, а майор Корневич – непосредственный начальник Хрустова, сидит напротив, зевает, слушает пленку с записью и в некотором оцепенении рассматривает огромные подошвы ботинок над темной полировкой.
– И как долго это продолжается? – Корневич судорожно дергает головой от каждого звука невидимых клавиш. – Я спрашиваю, сколько уже часов насилуют Чайковского?
– Так, ты здесь минут сорок… Восьмой час пошел, – Хрустов посмотрел на часы, потом в потолок, потом в изумленное лицо начальника.
– Не может быть.
– Я тоже так думаю. Есть сильное подозрение, что вот этот чих и последующее высмаркивание я уже один раз слышал. Часа три назад. Есть еще интересный момент. Она не берет телефон. Он звонит, а она не берет трубку. Потом включается лента записи, что-то щелкает, и на английском языке звонившему предлагается высказать свои пожелания за сорок пять секунд промотки ленты.
– Автоответчик! Моя тетка тоже так делает. Она никогда не берет трубку, пока звонивший не начнет говорить. Удобно, скажу я тебе.
– Корневич, подойди к этому объективно. Никакая женщина не может долбить так непрофессионально по клавишам девять часов подряд!
– Она пришла домой от подруги в восемь вечера. Я видел это собственными глазами.
– Сколько ей лет?
Корневич посмотрел на Хрустова с раздражением и качнул стол, брезгливо дернув рукой. Хрустов опустил ноги.
– Вникни, Хрустов! Я чувствую охоту, понимаешь, большую охоту. А ты третий раз спрашиваешь, сколько ей лет!
– Жрать охота, – проигнорировал Хрустов раздражение начальника. – И голос у нее пискливый, и мордочка какая-то… целлулоидная! Кстати, о подруге. Вот она хороша. Низкий тембр, надменный профиль, – он развернул веером фотографии на столе и щелчком выдвинул темный прямоугольник с четко вырисованным на фоне освещенного окна строгим профилем молодой женщины.
– Целлулоид? Ты китайский фарфор видел когда-нибудь?! – Корневич усмехнулся снисходительно, не глядя на фотографию. – Это ты на нее вблизи не смотрел, а я смотрел!
Хрустов заявил, что в жизни не интересовался посудой, и, конечно, не смог припомнить нежную матовость тонкого полупрозрачного древнего фарфора, сочетания белизны, всасывающей в себя свет, и синего с перламутром, он также не знал, что если сунуть в такую вазу палец, то он будет светиться сквозь тонкие стенки, проступая горячим пятном разбавленной в молоке крови, – он только смотрел, приоткрыв рот, на вдохновенно размахивающего руками Корневича, а когда тот стал просто заглатывать воздух, не находя больше слов, обозвал его извращенцем.
Корневич резко замолчал, поморгал белесыми ресницами и кивнул:
– Да. Я люблю, когда девочки еще нежные.
– Какая она девочка, ей двадцать пять, и она валютная проститутка?!
– Скучно мне с вами, офицер Хрустов.
– Виноват.
В наступившем молчании стал слышен спокойный ход настенных часов, перезвон трамвая за окном. На полу стоят несколько пустых бутылок из-под вина и валяются вчерашние газеты. Хрустов прищуривается, напрягая воспаленные от недосыпания глаза, пока число и год – 1984-й – не проступают четко, потом трет веки пальцами. Он знает, что холодильник пустой, если не считать бутылки с молоком неизвестного происхождения, потому что она уже была там неделю назад, когда он, установив «жучки» в соседней квартире, вошел в эту – «для служебного пользования» и привычно оглядел новую мебель, грязные стекла окон без занавесок и пыльный паркет. Хрустову тридцать шесть лет, но он этого еще не понял ни телом – крупным, сильным и не причиняющим ему никаких беспокойств, ни умом – жизнь все еще нравилась. Как-то увидел себя в зеркале, когда ему было двадцать три, посмотрел случайно, потому что был на первом задании, и дернулся всем телом на собственное отражение. Несколько секунд неузнавания, а потом странное удовольствие и гордость от того, что увидел, хотя паренек в зеркале с напряженным лицом и пистолетом в руке выглядел в богато украшенном ресторанном зеркале как-то обреченно. И потом, когда Хрустов представлял, как он может выглядеть со стороны, или думал о себе в третьем лице, он был всегда тем, двадцатитрехлетним из зеркала.
Корневич моложе Хрустова, но, как он всегда подчеркивает при знакомствах, чуть тряхнув головой, «стар с детства». Корневич не борется с полнотой и с выпадением волос, из спиртного предпочитает красное крепленое, к работе относится с исступленным азартом, тщеславен, но напарник отличный, несмотря на выстраданный чин. Иногда Хрустов думал, что от Корневича давно бы постарались избавиться из-за излишней интеллигентности, если бы не присущая ему тончайшая интуиция. В самом ординарном и бессмысленном происшествии он мог учуять невероятную интригу и всегда угадывал.
В коридоре пикает невидимое радио и встряхивает тишину гимн. Шесть утра. Корневич достает из кармана пиджака начатую пачку печенья. Они молча жуют и смотрят в окно. За окном лето. У окна стоит большой круглый стол с аппаратурой. Хрустова гипнотизирует крутящаяся бабина с лентой, глаза закрываются сами. Корневич топает ногой, отстукивая в паркет секунды, которые отслеживает по часам, Хрустов дергается и тоже смотрит на часы, потом они смотрят друг на друга, потом опять – злорадно – на часы, не сводя с них глаз, встают и идут в коридор.
– Две тридцать три… Тридцать пять… Сорок!
Два звонка в дверь. Коротких. Корневич смотрит в «глазок» и щелкает замком.
– Това-ва-рищ майор, – вваливается запыхавшийся сержант.
– Две минуты сорок две секунды опоздания, – подводит итог Хрустов.
– Так ведь лифт же, товарищ майор!..
Корневич отпускает два звонких щелбана в потный лоб с зачесанным русым чубом.