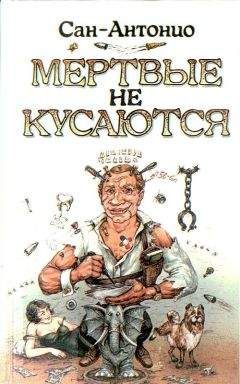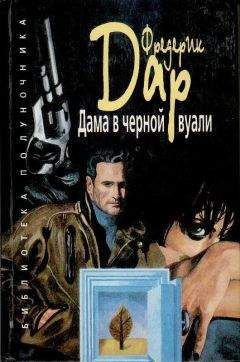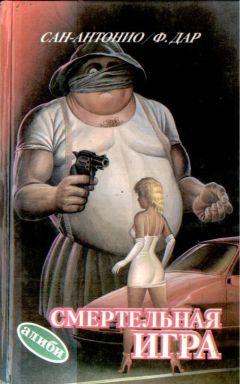Вдоль одной стены шкафы в стиле позднего христианства. Напротив Христос в натуральную величину, распятый на кресте. Голова набок, сам в агонии. Красивая комната конца шестнадцатого века. Меблировка и декор только испанские. Какая страна!
Одетый в черное сутулый человек с длинными белыми волосами перелистывает досье. Он не поднимает глаз, когда меня вводят. Один из стражников знаком велит мне сесть в черное кожаное кресло. Поднимаю скованные руки жестом, заимствованным у наших собственных заключенных. Но, против всех ожиданий, с меня не снимают моих висюлек. Стражники удаляются. Человек в черном продолжает играть со своими папками. Слышно только шуршание перелистываемых страниц. Через какое-то время из-за моей спины долетает что-то вроде вздоха. Это производит на меня действие электрического тока, ибо я думал, что я один с моим визави. Я не заметил типа сзади меня справа от двери. Большой амбал, блондинно-рыжий, не скажу, что с брюхом, но с желудком. Вроде мяча для регби выше пояса. На нем мятый костюмец, рубаха в сине-красную клетку, незастегнутая сверху, и он чавкает жвачку в знак подтверждения, что он американец.
Я улыбаюсь ему, но он продолжает рассматривать меня, как стекло между ним и старыми добрыми временами.
Текут минуты. Война нервов или что? Меня «готовят»?
Решаю играть в ту же игру и думать, ожидая, о чем-нибудь постороннем. Спрашиваю себя: сколько ступенек надо пройти от моего кабинета до бюро Старика? Стараюсь воссоздать мои обычные движения. Получается плохо. Решаю, что ступенек всего семнадцать. Надо будет проверить, когда вернусь. Перво-наперво сосчитаю ступени. Но когда я вернусь?
Беловолосый поднимает, наконец, голову. Смотрите-ка: он косой. Шустренько седлает свой нос очками в большой черепаховой оправе. Разглядывает меня.
— Я судья Пасопаратабако, назначенный расследовать ваше дело, — сообщает он мне.
Делаю голос медовым, а взгляд бархатным.
— Мое почтение, господин судья. Дело-то самое простое. Я жертва махинации. Прибыл на Тенерифе для слежки за действиями одного подозреваемого, но тот решил парализовать мои действия и преуспел. Слава Богу, моя репутация незапятнана, и в Париже сам министр внутренних дел лично подтвердит мою честность. Я…
Судья Пасопаратабако прерывает меня нервным жестом правой руки. Он выбрасывает ее в мою сторону, прямо как для фашистского приветствия!
Затыкаюсь и преобразую взгляд в два вопросительных знака.
Тогда он возвращает руку обратно, чтобы пошарить в бумажонках. Выбирает лист и начинает медленно его читать, прекрасно артикулируя.
«Я, нижеподписавшийся, Берюрье Александр-Бенуа, француз, место рождения Сент-Локдю-Левье…»
У меня, ребята, головокружение. Патологическое оцепенение, а также логипатическое. Судья Пасопаратабако становится похож на готическую химеру. Слова льются из его пасти, как жидкость, понятно вам? Мне тоже, что доказывает, что я такой же тупарь, как и вы, когда я серьезен.
«…признаюсь в тайном ввозе на испанскую территорию одного килограмма героина, который я должен был передать одному человеку, чье имя назвать отказываюсь. Этот героин был вручен мне в марсельской лаборатории, название которой я также не намерен сообщить. Я действовал вместе с моим начальником комиссаром Сан-Антонио. Мы возим наркотики за границу не впервые. Нам, как офицерам полиции, это не составляло трудностей…»
Неожиданно меня осеняет предчувствие. У Сантонио есть нюх. Способность предвосхищать события до того, как они произойдут. Но мне от этого не легче.
Судья продолжает читать. Но остальное — это уже юридическая литература.
Когда мой собеседник заканчивает отрывок, важность которого никто из присутствующих не будет отрицать, он поднимается, обходит стол и показывает мне подпись, венчающую документ.
— Вы узнаете подпись инспектора Берюрье?
— Да, — отзывается Болвантонио блеклым голосом.
Удовлетворенный, судья возвращается на свое место.
— Что вы можете заявить?
— Что инспектор Берюрье был в состоянии наркоопьянения, когда он подписал такое признание, — вздыхает Сан-Турканный. — Потому что даже под пытками он не подписал бы этого.
— Вы признаете, значит, что он наркоман? — атакует Пасопаратабако.
Ну вот, только этого не хватало! Настроение бодрое, иду ко дну, мои чокнутые! С тысячью тонн свинца, привязанной к копытам.
— Я сказал, что его напичкали наркотиками! Мы невиновны! Мы никогда не были гонцами наркосети, наоборот, мы гонялись за гонцами. Наша карьера говорит сама за себя. Никаких выговоров, только благодарности.
Недоверчивый и презирающий взгляд чиновника ясно показывает, что он думает о моих протестах. Малый, застигнутый с бабцом ее собственным мужем в процессе, имел бы больше шансов убедить последнего, что он тут для ремонта телеящика.
Неожиданно, пока я сюсюкаю о своих профессиональных достоинствах, Пасопаратабако встает, как если бы вчерашняя пища заиграла у него в животе, и покидает кабинет с таким видом, будто хочет сменить его на другой, более прозаический.
Готов поставить большую машину против вашей маленькой машинки, что уход этот преднамеренный. Действительно, не успела дверь захлопнуться за ним, американец поднимается и подходит ко мне. Садится на край стола лицом к вашему слуге, отодвинув локтем кубометр бумажек.
— Хелло, — громыхает он. — Гнусный момент для вас, а?
— Скорее да, — соглашаюсь я. — Когда я читал «Знаменитые судейские ошибки», всегда создавалось впечатление, что это вранье, но теперь убеждаюсь, что они существуют.
Он качает головой. У него нет такой агрессивной недоверчивости. Он довольствуется простым неверием без видимого оскорбления моей беспардонной ложью.
— Я из бюро по борьбе с наркотиками, — говорит он между двумя энергичными чавканьями.
— На отдыхе? — шучу я.
— Хм, это будет зависеть от вас, старина. Если вы выложите свои связи, я, может быть, отдохну три-четыре дня перед возвращением в Вашингтон.
«Эскапада — это всегда хорошее дело, тем более что в нашей гостинице есть группа миленьких немочек, подолы юбок которых находятся выше пояса…»
Пронзаю его взглядом, как если бы я был американским орлом на двадцатидолларовой монете:
— Представьте, коллега, что в данный момент какой-нибудь мелкий хитрец раззявил ваши чемоданы и засунул туда порошочек, затем стучит полиции, которая проверяет, находит и заграбастывает вас.
— Ну и что?
— Предположите, говорю я вам, возможно это или нет?
— Ну и что?
— А то, милый друг, что именно это и произошло со мной. Больше прибавить нечего, потому что к истине ни убавить, ни прибавить, ю си?
— Вы слышали показания вашего приятеля?
— Не верю ни единому слову. Он свихнулся в тот момент.
— Вы предполагаете, что здешний следователь напичкал его наркотиками перед дачей показаний?
Делаю гримасу.
— Все ж таки нет.
— Нет, а? Все ж таки нет? Тогда гоните вашу версию, я на приеме.
Умолкаю, подавленный альтернативой.
Хорошо сработана эта подлая подставка.
— Кажется, дела у вас хреновые, — бормочет американец, перегоняя жвачку на другую сторону.
Он вроде бы продолжает говорить, но будто чья-то шутливая рука перекрыла звук. Риканцы не чавкают свой Данлоп на тот же фасон, как другие народы. У них работа медленная, спорадическая. Несколько небольших движений челюстью время от времени, как жвачные животные. И это сказывается. Каучуковые шарики амортизируют их мозги.
— Совсем хреновые, — соглашаюсь я, инспектируя горизонт и не находя ничего в виду. — К чему было становиться одним из первых фараонов, если какой-то злой шутник может угробить тебя путем самой грубой фальсификации? Послушайте, старина.
— Вам бы так говорить, как я слушаю: я здесь для этого!
— Допуская, что полицейский с моей репутацией решил заняться наркотиками, думаете ли вы серьезно, что я удовлетворился бы только двумя кило зараз?
— Ну, при той цене…
— Именно, при той цене, как она есть, пакеты были бы значительно большими! Вы забыли еще одну вещь: меня послал сюда мой начальник. Он это подтвердит. Вы подозреваете высшего чина парижской полиции в принадлежности к «Французской связи»?[15]
Его молчание злит меня. Понимаете, что означает молчание этой заразы, замаскированной под зуава? Что с французами все возможно!
Он вытаскивает изо рта свою жвачку и давит ее о ребро стола, затем разворачивает обертку новой пачки и начинает с наслаждением смаковать новую порцию.
— Знаете, что, старина?
— Что, — выдыхаю я с таким жалостным видом, что вы сразу бы купили мне полбутылки красного.
— Что бы вы ни говорили, ничего не изменит вашего положения. Ваш коллега признался. Его признание обеспечивает вам омерзительное будущее на тюремной подстилке, точно?