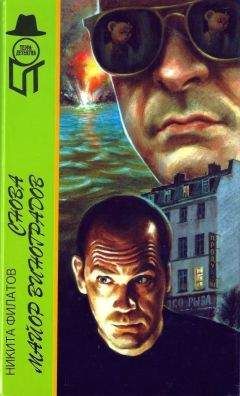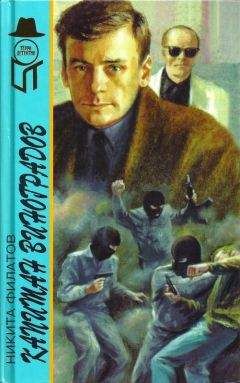— Здесь свободно?
— Присаживайтесь!
Пушкин оказался именно таким, каким его представлял себе Виноградов: лет приблизительно сорока, нечесаный, бородатый. То, что лично он считал некоторой артистической небрежностью в одежде, на деле оказывалось элементарной неопрятностью. Таких забирают в вытрезвитель первыми.
— Что вам принести? — поинтересовался хозяин.
— Пиццу! Посимпатичнее. Один кофе… — Владимир Александрович посмотрел на остатки винегрета на соседней тарелке и поинтересовался: — Рекомендуете?
— Нормально готовят. И недорого, в общем-то…
— Могу вас угостить?
— Хм? — Разобрать, что выражает физиономия под волосяным покровом, было сложно. Наконец поэтическая натура сделала выбор: — Разве что водочки. За компанию.
— Отлично! Тогда так: одну пиццу, парочку бутербродов попроще и два по сто «Пятизвездочной». Все.
— Одну минуту! Принесу. Кофе не надо?
— Попозже, наверное.
— Будете? — Кроме тарелки с остатками пищи перед Пушкиным возвышалась бутылка дешевого «Сачино».
— С удовольствием.
Нацедилось как раз два бокала, и, пока Виноградов с томлением в сердце прикидывал завтрашние последствия винно-водочного коктейля, поэт пояснил:
— Друг вчера прислал ящик. Из Грузии… Тоже литератор!
Судя по этикетке, вино разливали не дальше чем в трех автобусных остановках отсюда, но Владимир Александрович сделал почтительное лицо:
— Да-а! Изумительный букет.
Пицца пришлась как нельзя более кстати, но водку уже закусили бутербродами с сыром.
— За знакомство… Как вас, простите, зовут?
— Олег Викторович! Реймер. Поэт…
— Надо же… Володя! Виноградов. По образованию — моряк.
— И как же вы из моряков в милицию?
Владимир Александрович поперхнулся:
— Что, простите?
— Ну, ведь вы же тот самый, из уголовного розыска, который убийством занимается?
— А как вы догадались?
— То-оже мне… тайна! Я просто видел, как вы с хозяином этого трактира шептались, на улице. Поссать вышел — и видел. — Пушкин-Реймер со вкусом втянул в себя содержимое стакана и дружелюбно глянул на собеседника: — Хотите экспромт? Стихотворный?
— С удовольствием! — Виноградову все равно надо было собраться с мыслями, чтобы сообразить, как вести себя дальше.
— Слушайте:
Из мочеполовой системы
Все чаще извлекаю темы…
— Спасибо.
— Понравилось? Могу еще!
— Конечно, но чуть позже, ладно? Хотелось бы еще заказать, граммов по пятьдесят.
— Лучше сразу по сто! — авторитетно подправил любимец муз. — Чтоб не бегать. Потому что вы мне понравились… Хотя я лично органы ваши не жалую.
— А я, если честно, поэтов не воспринимаю. Странный народец!
— Дерьмо! Дерьмо народец, поверьте… — задетый за живое, вскинулся Реймер. — Настоящих-то, талантливых сколько?
— Не знаю.
— А я — знаю! Двое-трое на всю Россию. Ну, Женя Евтушенко, хотя тоже спорно… Оську Бродского выгнали, меня не печатают — да больше-то, считай, и нет никого.
— А Лермонтов? Пушкин? Маяковский…
— Ой бросьте! Пейте лучше свою водку и ловите хулиганов. Рожденный, так сказать, ползать…
— Ну зачем вы так… Я, конечно, в стихах не силен, но…
Владимир Александрович сделал вид, что не замечает, как по-хозяйски сосед расправляется с новым графинчиком.
— Стихов не пишешь? — перешел уже на «ты» поэт-беспризорник.
— Ни-ни!
— Молодец. А то все кому не лень… Знаешь, за что меня из редакции выгнали?
— Завистники?
— Конечно! Но не в этом дело… Пришел ко мне певец один, оперный. Лауреат, такой-сякой народный весь из себя. Разродился поэмой. И просит, чтоб я его напечатал. — Собеседник вцепился немытой рукой в виноградовскую пиццу и сунул в рот остатки. Прожевал, выдохнул и продолжил: — Коз-зел… Я прочел, пригласил его и этак вежливо, но при всех наших предлагаю: я, мол, издаю твои вирши, а ты за это даешь мне спеть чего-нибудь или сплясать в Мариинке, в «Лебедином озере» к примеру.
— А он?
— А он сразу в крик: вы же, мол, не умеете, этому надо сто лет учиться… А стихи писать, спрашиваю, учиться не надо? Что, это проще, чем ногами дрыгать или рот разевать под музыку?
— Классно вы его приложили! — Больше всего сейчас Виноградов опасался, что его вытошнит. Но приходилось терпеть. Еще минут двадцать Владимир Александрович слушал поэтические декламации Пушкина, перемежающиеся жалобами на засилье в литературе евреев и русских черносотенцев, потом понял, что, если не перейти к делу, толку от доверительных отношений с осоловевшим свидетелем не будет никакого.
— Жалко, те сволочи тогда убежали…
— Кто — тогда? А, само собой! Я же их чуть было не порвал, мерзавцев… Плевать мне на нож — тьфу! Мас-соны…
— Да, о вас тут все очень высокого мнения.
Еще немного поговорили о личных бойцовских качествах собеседника и, по инерции, о его вкладе в отечественную поэзию, после чего наконец перешли к делу. С точки зрения гражданина Реймера, события в тот трагический вечер развивались следующим образом:
«По существу заданных мне вопросов сообщаю, что такого-то октября сего года, приблизительно в девятнадцать часов я находился с целью проведения досуга в кафе-баре „Чайка“. Кроме меня и обслуживающего персонала в зале находилось не более пятнадцати человек, из которых ранее мне никто знаком не был. Через некоторое время после меня, более точно я указать время не могу, в кафе появился гражданин, как я позже узнал в милиции, его фамилия Прохоров…»
— А ты не врешь? Может, он и не Прохоров вовсе! — подозрительно покрутил перед собственным носом засаленной вилкой свидетель.
— Нет, все точно. Личность установлена, — оторвался Владимир Александрович от протокола.
— Верю! Тебе — верю… Пиши.
«…его фамилия Прохоров. Были ли у него с собой какие-либо вещи, я не запомнил, точнее — не обратил внимания. Сделав заказ, Прохоров некоторое время сидел один, потом кто-то из посетителей, внешность его я описать не могу, только помню коричневую кожаную куртку, подошел к столику Прохорова, чтобы, как мне показалось, прикурить.
Прикурив, он на обратном пути к своему месту задел что-то из блюд за другим столиком и после очень короткой ссоры ударил мужчину, сделавшего ему замечание, по лицу. В конфликт попытался вмешаться охранник кафе, но его тоже кто-то ударил, и драка приобрела массовый характер…»
— Может, лучше написать — групповой? — потрепал по плечу замолчавшего свидетеля Виноградов.
Тот покладисто кивнул:
— Групповой… секс! — и тоненько захихикал, — Я стишок тут на эту тему…
— Чуть попозже, ладно? Саша! Два кофе, пожалуйста.
Нужно было любой ценой поддержать в свидетеле способность внизу каждой страницы и в конце протокола изобразить положенный текст и подписи. Собственно, больше ничего Виноградов от поэта-беспризорника не ожидал, все, что мог, тот уже рассказал, и теперь оставалось только вкратце перенести его монолог на бумагу.
Владимир Александрович поблагодарил судьбу, приучившую его когда-то постоянно носить в служебной папке пару-тройку казенных бланков, — второй встречи с Пушкиным, даже для записи его показаний в официальной обстановке, психика и печень видавшего виды оперуполномоченного могли не выдержать. Снова устанавливать с ним доверительный контакт оказалось бы слишком накладно для здоровья.
«…приобрела массовый характер. Я попытался разнять дерущихся, но безуспешно. Кто и в какой момент ударил Прохорова ножом в спину, я не видел, кто непосредственно наносил удары мне — тоже. Претензий ни к кому не имею».
Последнюю фразу Виноградов хотел выделить восклицательным знаком, но ограничился только тем, что с выражением произнес ее вслух.
— Подпишите: здесь… и здесь.
— Зачем это? — разлепил веки Реймер.
— Надо! — отчеканил Владимир Александрович.
Свидетель безропотно поставил требуемые закорючки.
— Теперь вот здесь вот попробуйте изобразить текст: «С моих слов записано верно, мною прочитано»… подпись.
— Не буду! — неожиданно заартачился любимец муз. Скрестив на груди руки, он тряханул нечесаными космами и, потеряв равновесие, чуть было не рухнул со стула.
В этот момент он казался себе, очевидно, одновременно Гумилевым и Мандельштамом в чекистских застенках.
— Водки заказать? — Это был, конечно, прием некорректный, но церемониться времени не оставалось. И так предстоял дома легкий скандальчик…
— Пожалуй, — решил снизойти собеседник.
— Мы же друзья?
— Допустим…
— Меня с работы погонят. — Пора пришла бить на жалость.
Поэт как раз находился в миноре:
— Давай сюда! — Под диктовку оперативника он изобразил на странице нечто отдаленно напоминающее предписанную УПК фразу. Почерк загнал бы в могилу любого графолога, но для стандартного милицейского «глухаря» годился. — Доволен?