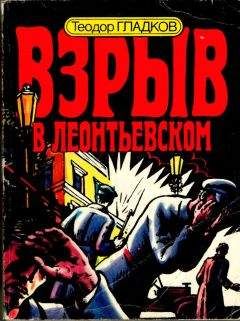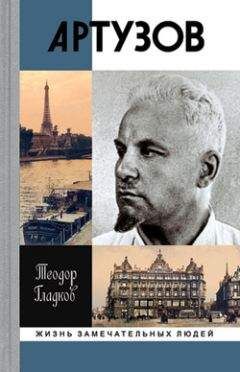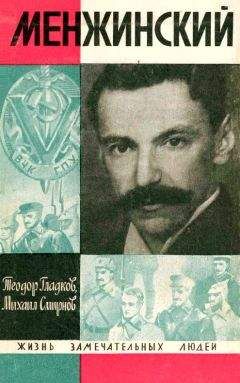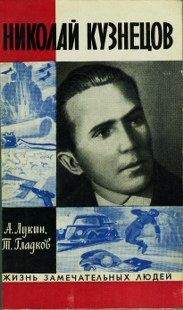Меж тем Таня опомнилась. Исподлобья взглянула на военного уже более спокойно. Тут только приметила звездочку с перекрещенными плугом и молотом на фуражке, квадраты из алого сукна на левом рукаве шинели… Конечно же, командир Красной Армии. Приметила и хрупкий лиловатый, совсем недавний шрам на правой скуле, убегающий под фуражку. Приметила и то, что военный молод и был бы, пожалуй, красив, если его чуточку подкормить.
На уличного ухажера не похож, да и сама она сегодня с перевязанной головой, опухшими глазами и этой желтой ссадиной на пол-лица не слишком-то привлекательна, чтобы к ней приставали на улице с знакомствами. Видно, парень действительно подошел по доброте.
Ничего этого, конечно, Таня вслух не произнесла, но молчала уже более миролюбиво и не стала возражать, когда он пристроился по ее левую руку и на полшага сзади. Девушка не подозревала, что по неизвестным ей правилам хорошего тона, вроде бы категорически отмененным революцией, мужчина должен именно так идти рядом с женщиной, если не держит ее под руку. А знала бы, незамедлительно взбунтовалась снова.
Молча они дошли до Пречистенки. И тут только военный опять заговорил доверительно и даже застенчиво.
— Вообще-то вы угадали. Я из офицеров. Только знаете, как в старой армии про таких, как я, говорили? «Курица не птица, прапорщик не офицер». А кто с солдатами в окопах да в самом пекле? Наш брат прапор, «Ванька-взводный», «гвоздь в погоне».
— Почему «гвоздь в погоне»? — не удержалась от улыбки впервые, заслышав странное и смешное выражение, девушка.
— Потому что у настоящего кадрового офицера в первом после выпуска звании — подпоручика на погоне две звездочки, а у прапорщика только одна, торчит, словно обойный гвоздик, — обрадованно, поняв, что разговор завязывается, объяснил Сергей. Признался: — Потом, правда уже на фронте, дослужился до поручика.
— Все равно господа, голубая кровь… — больше по инерции упрямилась Таня.
— Это я-то голубая кровь? — расхохотался военный. — Я до войны сельским учителем был, а батюшка мой покойный из крестьян Вышневолоцкого уезда, деревня Белавино… «Голубая кровь» в юнкерских училищах, там офицера из дворян в основном несколько лет готовили. А мы, прапорщики, офицеры военного времени, все больше из студентов и учителей. Шесть месяцев ускоренной подготовки, и марш на фронт… «Взвейтесь, соколы, орлами…» А вы где работаете?
Девушка явно смягчилась. Украдкой еще раз оглядела военного, теперь он ей уже нравился. Да и нет в нем ничего золотопогонного. Просто подтянутый красный командир, и вежливый. Ответила уже вполне дружелюбно:
— Сейчас в Моссовете… В агитотделе. А вообще-то я с Прохоровской мануфактуры, как Маша Волкова…
— Она погибла? — понимающе спросил военный.
— Да, — голос девушки предательски задрожал. — И Аня Халдина, моя подруга, тоже. Мы с ней вместе в Моссовете работали, а потом ее в МК взяли.
— Вы тоже там были? — Сергей украдкой покосился на ссадину.
— А-а, — перехватив его взгляд, отмахнулась девушка. — У меня ерунда, — ее снова передернуло от пережитого страха.
Военный остановился, подбросил ладонь к козырьку и представился:
— Моя фамилия Вересков. — Подумав, повторил уже не столь официально: — Сергей Вересков.
Девушка доверчиво протянула ему ладошку лодочкой.
— А я Таня, — потом спохватилась и произнесла очень чинно: — Татьяна Алексашина.
И они улыбнулись друг другу.
Стремительными, легкими шагами по длинному коридору здания МЧК на Большой Лубянке расхаживал взад-вперед, сосредоточенно думая о чем-то, Дзержинский. Большие пальцы ладоней заложены за широкий солдатский ремень, голова опущена, взгляд сосредоточен. Спешащие по делам сотрудники здоровались в ним без удивления — все знали привычку председателя разгуливать по коридорам. Но немногие догадывались о происхождении этой привычки. Треть своей жизни — четырнадцать лет — Феликс Эдмундович провел в тюрьмах и на каторге. Долгие годы заключения породили острую подсознательную неприязнь к замкнутому пространству, пускай в настоящее время таковым был достаточно просторный служебный кабинет. И сидеть в тюрьме в дневное время полагалось только на закрепленном, чтоб надзиратель в глазок мог всегда видеть, табурете. Вот почему и любил Дзержинский, когда хотел поразмышлять над чем-то очень серьезным, отмеривать версты по коридорам комиссии.
На плечах каким-то чудом удерживалась наброшенная длиннополая шинель. Эта широко известная его привычка тоже от тюрьмы. В камерах и казематах всегда было холодно, заключенные ни днем, ни ночью не снимали полосатый арестантский халат. И Феликс Эдмундович еще несколько лет после выхода из Бутырской тюрьмы носил в помещении шинель внакидку… Правда, и в помещениях МЧК было нежарко — дрова для отопления выделялись по строгому лимиту далеко не в достаточном количестве.
Дзержинский уже тогда был болен, сильно болен, но не позволял себе и думать об этом. Быстрая ходьба была и своего рода отвлечением от постоянного недомогания. Движения взбадривали, улучшали самочувствие, собственно говоря, ничего другого противопоставить болезни Феликсу Эдмундовичу было нечего, тем более что в целебную силу медикаментов он не слишком и верил. Подобное отношение к собственному здоровью, по тогдашним представлениям, естественно безразличное, было характерно для большинства профессиональных революционеров, особенно бывших политкаторжан. Они все держались на ногах без помощи медиков, следовательно, оставались на посту ровно столько, сколько позволяло оставшееся здоровье, умноженное на трудно измеримый коэффициент воли и чувства долга перед партией, народом и страной.
С улицы, отряхивая с тяжелого плаща капли дождя, вошел Манцев. Дзержинский приветственно помахал ему рукой.
— Откуда, Василий Николаевич?
— С Патриарших прудов, Феликс Эдмундович. Арестовали нескольких офицериков. Прятались после ликвидации «Штаба» на квартире некоего адвоката Куличко. Рыльце у всех в пушку, но ничего похожего на причастность к взрыву.
— А показания арестованных ранее?
— Выходы куда угодно, в том числе на полковника Хартулари, начальника деникинской разведки, только не на Леонтьевский.
— А сам адвокат?
— Бывший активный кадет. Большие связи по высшему эшелону партии. Типичный московский краснобай-теоретик. На практические действия не способен… Однако проверили на всякий случай. Двойное зеро.
Дзержинский подхватил своего заместителя под локоть, увлек в дальний конец коридора, где уселся на край широкого подоконника, поджав одну ногу. Неподходящее вроде бы место, да и поза со стороны неудобная крайне. Все это, однако, ни в малейшей степени не смущало Дзержинского. Он привык работать непрерывно и в самых неподходящих условиях. Поэтому приступал к делу, когда оно этого требовало, не теряя и минуты на то, чтобы перебраться в более удобное место. Вот и сейчас он не тратил время, не пошел в свой кабинет, который, кстати, принадлежал Дзержинскому как председателю МЧК скорее формально, куда чаще им пользовался Манцев как его заместитель.
По интонации Василий Николаевич сразу догадался, что предстоит продолжение разговора, начатого Дзержинским еще с самим собой, без собеседника. За недолгие месяцы знакомства Манцев усвоил эту особенность Феликса Эдмундовича и научился мгновенно включаться в беседу с ним, безошибочно улавливая нить размышлений.
— Понимаете, Василий Николаевич, меня после того заседания коллегии все время мучает одна мысль: а вдруг это не белогвардейцы? Вдруг кто-то другой, кого мы, по уши занятые «Национальным центром» и «Штабом Добрармии», сбросили невольно со счетов, и зря? А?
Манцев не возражал:
— Что ж, теоретически возможно… Нечисти любой окраски в Москве хватает.
Дзержинский заговорщицки, немного задыхаясь, зашептал почти на ухо. Ему нельзя было быстро говорить, случалось, горячая речь переходила в приступ неудержимого кашля, но Феликс Эдмундович, увлекаясь, всегда забывал об этой коварной особенности своей болезни.
— В том-то и дело, уважаемый Василий Николаевич! Весьма странным и даже многозначительным показалось мне некое обстоятельство. А именно: кое-кто из хорошо известной нам нечистой публики, весьма амбициозной и шумной доселе, подозрительно притих в последнее время. И не просто притих, а, я бы сказал, сошел с горизонта политической деятельности. А может, не сошел, а притаился? Тогда почему? В первую очередь — анархисты. Вы только подумайте сами, анархисты и вдруг шуметь перестали. Словно по команде? С чего бы так?
Манцеву ничего не надо было повторять дважды. Подхватил молниеносно мысль, словно кольцо на палочку в детской игре серсо, наблюдать которую приходилось ему некогда во Франции.