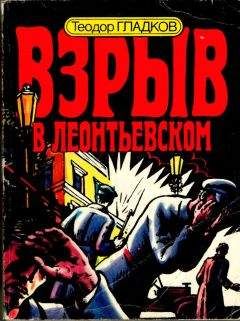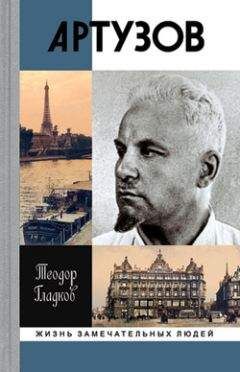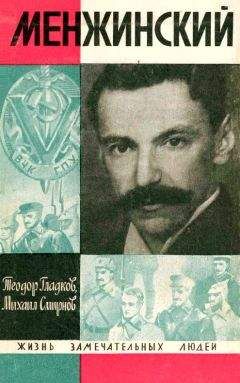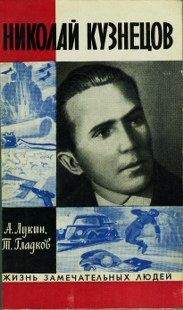— Может, и осколки… Но мы должны исходить из худшего. То есть что уцелела вполне структурная, пусть и небольшая, белогвардейская организация. Откуда у одиночки чуть не два пуда динамита? И точная информация о возможном присутствии на собрании Владимира Ильича? Вряд ли террористов интересовали пропагандисты. Но на совещании собирался присутствовать Ленин! Вы ведь знаете, что Старик буквально в последнюю минуту изменил свои планы и решил выступить в госпитале перед ранеными красноармейцами.
Манцев тоже был убежден, что взрыв — не слепая удача, вылазка одиночки.
— Похоже на заранее подготовленную акцию. И подготовленную хорошо. Неудача — в том смысле, что убить Ленина им не удалось, — случайна. Но технически все было обставлено квалифицированно.
— Вот именно! — Дзержинский встал: — Все свободны, товарищи. Продолжайте работу. Прошу всю серьезную информацию незамедлительно докладывать Рогову и Морозу.
Оставшись один, Феликс Эдмундович надолго задумался. В который раз просмотрел документы, пока еще очень скудные, относящиеся к взрыву в Леонтьевском. Потом перелистал протоколы допросов основных фигурантов по делу «Штаба Добровольческой армии Московского района». Неожиданно произнес, словно спрашивая сам себя:
— А если это не осколки? И вообще не белогвардейцы?
Решительно поднял трубку телефона и попросил соединить его с Евдокимовым:
— Ефим Георгиевич? Дзержинский. Если у вас нет ничего срочного, вернитесь ко мне, пожалуйста. Возникло одно соображение, хочу посоветоваться.
Председатель ВЧК и МЧК вторично пригласил к себе начальника Особого отдела вне связи с той должностью, которую Ефим Георгиевич занимал. В данном случае Дзержинскому важен был собственный политический опыт Евдокимова. Ведь чекист-большевик начинал свой путь революционера в составе боевой рабочей дружины, сформированной анархистами…
В тот ненастный, хмурый день, понедельник 29 сентября 1919 года, уже с раннего утра к Дому союзов, бывшему Благородному собранию, со всех застав и окраин тянулись молчаливые колонны. Шли рабочие с заводов Гужона, Михельсона, Грачева, Дангауэра и Кайзера, «Динамо», железнодорожных депо, Сокольнических ремонтно-трамвайных мастерских, Прохоровской мануфактуры… В толпе, одетой вовсе не по-сентябрьски, выделялись ровными серыми пятнами шинелей взводы и роты красноармейцев — представителей частей Московского гарнизона. Отдельно, стараясь не оторваться от своих, держались группы крестьян — то приехали на похороны жители близлежащих к Москве сел и деревень.
Над некоторыми колоннами несли кроме знамен с черными лентами полотнища с надписями, которые словами простыми и горькими выражали гнев и ненависть, скорбь и печаль. Их никто не готовил, не согласовывал заранее и не утверждал, они родились сами, в глубинах рабочих масс. Неведомый летописец эпохи записал некоторые из них, дошли они до наших дней, донесли чувства и переживания тех уже далеких лет до нас, потомков…
«Бурлацкая душа скорбит о вашей смерти, бурлацкие сердца убийцам не простят!»
«Ваша мученическая смерть — призыв к расправе с контрреволюционерами!»
«Вас убили из-за угла, мы победим открыто!»
Перед Домом союзов шествие застопоривалось, ряды перестраивались, в раскрытые настежь двери люди втекали по двое, по трое… Скинув шапки, картузы, фуражки, примолкали, на глазах навертывались слезы, некоторые женщины-работницы крестились… Из глубины Колонного зала торжественно и печально доносились звуки красноармейского духового оркестра, непрерывно игравшего траурные мелодии. Беломраморные колонны обвивали красно-черные полотнища, таким же красно-черным крепом затянуты были огромные хрустальные люстры, зеркала в переходах и фойе.
В центре зала был воздвигнут постамент. На нем, в цветах и лентах, отливали белым металлом двенадцать запаянных цинковых гробов с останками погибших при взрыве.
Никаких распорядителей при постаменте видно не было. Время от времени от какой-нибудь делегации отделялся ее представитель и произносил несколько слов прощания, кто как умел.
Все тот же безымянный репортер записал одно такое выступление:
«Настроение — смелое и твердое! Взгляд — бодрый и уверенный! Сердце, полное ненависти к врагам, рука, крепко сжатая для сокрушительного удара, — вот результат подлого проявления бессильной злобы и остервенения белогвардейцев и их сознательных и бессознательных пособников!»
Оратора сменяет кто-то из членов Московского комитета. Он зачитывает резолюции протеста против покушения на лучших представителей московского пролетариата, вынесенные на рабочих митингах во всех районах столицы, телеграммы, полученные из провинции и с фронтов, в которых трудящиеся и красноармейцы выразили глубокую скорбь по утрате стойких борцов за социализм.
Непрерывной чередой проходят мимо гробов люди. В одну из групп затесался Петр Соболев, в его глазах озлобление и разочарование. С ним звероватого вида, атлетического сложения Яков Глагзон и второй — растерянный, с подрагивающими губами идейный анархист Афанасий Лямин… Уже на выходе из зала он еле слышно шепчет:
— Что же это, Петр, зачем столько жертв, погибли-то рабочие!
Тоже шепотом, резко обрывает его Соболев:
— Чего нюни распустил! Все правильно! Массы надо будить, слов не понимают — разбудим динамитом!
В испуге отшатнулся Лямин, страшен, не по-людски, по-звериному страшен был Соболев в этот миг. С белыми от бешенства глазами рванулся он к выходу, увлекая за собой враз потерявших какую-либо охоту возражать спутников. Они изумились бы, если б узнали, что гнев и бешенство, в кои впал их главарь, вызваны глубинным страхом. Нет, не страхом перед возможным возмездием, самым суровым. Соболев был смелый человек, ни чужая, ни собственная смерть не значили для него ровным счетом ничего. Страх, который он почти физически ощущал, в чем сам себе боялся признаться, был вызван ненавистью к убийцам тех, кто лежал сейчас в запаянных гробах, со стороны всей этой сплоченной массы людей… Людей, которых он хотел, надеялся поднять за собой против Советской власти. Взрыв вызвал грозную ударную волну, в этом он не ошибся. Ошибся в другом, что и уловил в тесноте и давке лестниц и переходов Дома союзов: волна народной ненависти била по нему, его организации.
До сих пор Соболев полагал себя истинным участником революции, идущим по единственно правильному и праведному пути ко всеобщей свободе. Учиненный им взрыв полутора пудов динамита обрушил не только стены и перекрытия старого здания. Он обрушил в нем самом последние иллюзии, оборвал все нити к тому народу, счастью и свободе которого он действительно готов был отдать себя всего без остатка и свою жизнь тоже.
Но его жизнь не нужна была тем, кто потерял в страшный день 25 сентября двенадцать своих товарищей.
Соболев понимал, что теперь его уж точно непременно расстреляют, если разыщут, задержат, изобличат. Расстреляют даже не из чувства мести, а по принципу высшей меры социальной защиты. Так убивают бешеную собаку, не для того, чтобы покарать, а чтобы уберечь людей от ее ядовитых укусов.
Соболев был далеко не глупый, хотя и ограниченный человек.
Ощущение всеобщей ненависти и презрения могло одного сломать, самого кинуться в петлю от ужаса пред содеянным, другого — прийти с покаянной, потребовать для себя самой жестокой казни, третьего… Соболев не сломался и не раскаялся. Он с удесятеренной силой возненавидел этих людей.
В прошлом он хоть искаженно, словно в кривом зеркале, но что-то сделал для революции — когда активно участвовал в свержении самодержавия. Отныне, после 25 сентября, и на веки вечные он был братоубийцей, у которого пролитая кровь выжгла все человеческие чувства. Самым худшим из всех возможных типов убийц — маньяком, обуянным неутолимой жаждой убивать, убивать, убивать… Слепо и нескончаемо. И остановить его теперь могла только пуля.
…Ни в тот день, ни в последующие Сергей Вересков так и не мог объяснить себе, почему он пошел на похороны в Дом союзов. Со здоровьем дело обстояло еще очень неважно. Нет, ничего не болело, но два одновременных ранения в голову и грудь, а через месяц подхваченный, видимо, на вокзале, а может, и в вагоне санитарном сыпной тиф, едва не отправившие его на тот свет, довели, что называется, до ручки. Хорошо еще, что сыпняк свалил уже в Москве, в «Главной военной гошпитали» в Лефортове, где нашлись нужные лекарства, да и выхаживали раненых и больных лучше, чем в провинциальных больницах, в которых порой и обычного йода не хватало.
В общем, он выкарабкался, был выписан и получил отпуск до полной поправки здоровья. Угрюмый военврач полковничьим раскатистым баритоном на вопрос, когда его снова отправят на фронт, безапелляционно ответствовал: