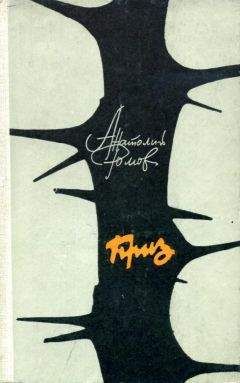Движениями колен, подрагиванием бедер, поворотами рук, негритянским неистовством ритма мать сейчас что-то объясняет, что-то рассказывает всем — гостям, ему, всему миру… Что-то бесконечно веселое и бесконечно печальное, и это так понятно, так понятно…
Сближение с деревней, вот это понимание всего, что было в ней чужим, произошло неожиданно, когда он меньше всего ожидал этого. Пришел Омегву и попросил найти мать. Он ушел в деревню, стал искать мать и зашел в хижину, которая была чем-то вроде деревенского клуба. Готовилось какое-то сельское представление. В хижине было несколько комнат, отделенных друг от друга плетеными перегородками. За одной из перегородок он услышал сдержанные, подавленные возбуждением женские голоса, смех, подшучивания. «Значит, будут танцы», — подумал он и решил, что останется смотреть танцы. Он сидел в пустой комнате, не решаясь пройти за перегородку. Потом вошла старая седая негритянка, дружелюбно посмотрела на него. Он помнит — старуха, выждав, обернулась и сказала на ньоно кому-то, кто стоял за дверью:
— Ксата, сюда нельзя, здесь мужчина.
Молодой голос — в этом голосе было что-то, что заставило его сразу подобраться, он помнит, нотки этого голоса создали в нем какое-то напряжение, уже тогда, в первый раз, в нем звучало для него какое-то странное ожидание — сказал:
— Подумаешь. Ничего, потерпит.
Вошла та, которую старуха назвала Ксатой. Первое, что он почувствовал, было ощущение удивления. Удивления, что в мире — в любом, в черном, в белом, в красном, в каком угодно — может быть такая красота. Такая ослепительная, спокойная, ясная, простая.
— Вы уж извините… — Ксата, улыбнувшись, тут же отвернулась.
Он понял, что значит эта улыбка: по обычаю женщин ньоно девушка должна прятать глаза от незнакомого мужчины. Странно: он так отчетливо помнит Ксату именно в тот момент и отчетливо помнит, как она вошла, небрежно, наспех придерживая рукой спадающую с плеч накидку и досадливо соблюдая этот обычай. И хорошо помнит, что уже тогда заметил ее дефект, заметил, что у нее было оттопыренное ухо. Именно одно — как у какого-то настороженного зверька. Но теперь он понимает — этот дефект, это маленькое беззащитное ухо, чуть отодвинутое, было частью ее красоты.
— Да, пожалуйста, я сейчас уйду, — он еще не понимал, что произошло. Он был так потрясен красотой Ксаты, что чувствовал, будто его ударили. И в момент удара, в момент, когда Ксата села и стала гримироваться для танца, он лихорадочно искал защиты от этого удара. И вот, как защиту, как спасение от этой свалившейся на него красоты — что же он искал тогда в Ксате? В ней, которая, подводя глаза, настороженно закусив губу, отлично сознавала, как эта красота действует на него? Что же он искал? В эти секунды он пытался найти в ней хоть какой-то дефект, какой-то изъян… Да — он стал искать что-то, что было бы несовершенным в ее внешности, в этой красоте. И увидел, сразу же заметил это оттопыренное ухо… И — уцепился за него… Так, будто этот дефект что-то обещал ему… Так, как падающий в пропасть хватается за траву. Странно — именно из-за этого уха он на секунду почувствовал облегчение.
А там, за стеной хижины, все в это время было как обычно. Он слышал глухой звук барабанов. Должны были начаться танцы.
Но Ксата заметила эту его попытку. Она почувствовала — не видя ничего, — что он смотрит на ее ухо, и с какой-то полунасмешкой еще больше закусила губу, будто давая ему понять, что все впустую. И он понял, что он наверняка не первый, что в поисках спасения от красоты Ксаты многие пытались найти защиту от этого удара, и искали изъян в ее красоте, и видели это ухо, и пробовали зацепиться за него, и это не помогало — потому что Ксата была совершенна и это ухо было неотъемлемой частью ее красоты.
— Вы мне не мешаете.
Он не заметил, как старуха ушла и они остались одни. Это «вы мне не мешаете» было сказано спокойно, без всякого выражения, и было спасением для него, потому что он не хотел уходить. Ксата по-прежнему, склонившись над зеркалом, осторожно раскрашивала лицо — так, будто Кронго здесь не было. Ей было около семнадцати лет, и он, вглядываясь тогда в ее лицо, в пухлые, нежные, доверчиво беззащитные губы, в маленький, с легкой горбинкой нос, в коричнево-матовые, гладкие, сильно скуластые щеки, в огромные глаза, в которых странно уживались, жили одновременно испуг и уверенность, — он пытался понять, что же является главным в этой невозможной, раздавившей его, пугающей красоте. Но ведь ничего же нет, просто это негритянская девушка, девочка, почти ребенок. Но нет — в Ксате был какой-то секрет. Но тогда он так и не мог найти этого секрета. Потом, вспоминая эту первую встречу, он помнил, ему казалось, что секрет этой красоты был в ее глазах. В удивительной силе, которая жила в этих темных и одновременно прозрачных глазах, силе, которой Ксата была награждена от рождения.
Ксата продолжала гримироваться — так, будто его и не было. Поймав взгляд Ксаты, он вдруг с удивительной ясностью понял, что эта сила беззащитна. Когда Ксата, отрываясь от зеркала, изредка смотрела на него, его удивляла бессознательная, не осознанная самой Ксатой сила ее глаз и беззащитность этой силы, беззащитность, которая, как он вдруг понял, могла владеть всем миром. Казалось, Ксата просто не знала, что она красива. Не понимала, в чем секрет этой красоты.
— Я сейчас уйду, — сказал Кронго.
— Да, пожалуйста, сидите, — Ксата, короткими мелкими движениями поднося к щекам древесный кармин, выводила мелкие круги на щеках, и он понял, что она будет танцевать «священный танец». — Вы, наверное, смеетесь над нашей деревней.
— Нет, почему же… Ну что вы… — он вдруг понял, что слова путаются, он говорит не то, что хотел бы.
Он был растерян, подавлен, язык не слушался его. Но ведь он понимал: для того чтобы понравиться Ксате, он должен вести себя не так. Этот не слушающийся его, заплетающийся язык, это несвязное «ну что вы» — гибельны. Он должен вести себя по-другому, по крайней мере — должен хотя бы казаться спокойным. Ксата, как всякая женщина, увидит его растерянность — и все будет кончено.
Но сейчас, глядя на тонкую, хрупкую руку Ксаты, глядя, как эта рука движется мелкими шажками, легкими поворотами кисти от губ к щекам, нанося грим, он понял, что Ксата в ы ш е. Ксата увлечена гримом и не замечает его взгляда, но он тут же понял это и сказал себе — Ксата и ее красота в ы ш е. Выше всего, и прежде всего — выше того, о чем он сейчас думает. Он не может прикинуться или показаться спокойным — если он не спокоен. Он должен быть таким, какой есть — до последнего движения, до последней мысли. Красота Ксаты не терпит лжи.
Наверное чувствуя его состояние, но думая о чем-то другом, Ксата нахмурилась. Ему показалось, что Ксату испугало что-то, и он тут же попытался понять — что могло ее испугать.
— Вы… — обе ее руки делали теперь плавные движения, нанося последние мазки. — Недавно приехали?..
Она наверняка все знает о нем, знает, сколько раз он сюда приезжал, знает все — в том числе и о матери, и об Омегву. Тогда — зачем она спрашивает об этом? Кронго сейчас страстно хотелось, чтобы она проявила к нему интерес. Ему хотелось рассказать ей обо всем, что с ним связано. Об отце, об ипподроме, о бегах, о Гугенотке. Но Ксата посмотрела на него — и он испугался прозрачной темноты ее глаз, спрятался от нее, вдруг понял, что она и так, без рассказа, все о нем знает. Знает — хотя далека, бесконечно далека от Парижа, от отца, от Гугенотки, от его мира. Он хотел ей ответить — но не мог. Язык не слушался его, просто не слушался. Но это не было трусостью или робостью, это было какое-то странное, непонятное ему состояние. Кажется, она поняла и это — и приняла как должное. Через несколько секунд за дверью чей-то молодой голос сказал: «Ксату не видели?» Уже давно над площадью за хижиной глухой рокот барабанов превратился в нарастающий призывный гром.
— Ну, все… — Ксата встала, закутавшись в накидку.
Сейчас он лихорадочно искал в ее глазах, в неторопливых жестах, в любом ее движении ответ — хотя бы намек, что она хоть что-то хочет ему сказать, хоть как-то проявит свой интерес к нему. Но она ничего не сказала, отвернулась, выскользнула в дверь.
Отец всегда работал с ним старательно, на совесть, и уже с девяти лет приучал не только к качалке, но и к верховой езде.
Отец в воспоминаниях детства был совсем другим, чем потом, когда Кронго вырос и они вели и скаковую, и рысистую конюшни на равных, вдвоем, как два товарища. По сравнению с тем, каким отец казался ему в детстве, он стал потом как будто ниже ростом, его светлые волосы поредели, хрящеватый большой нос покрылся сетью прожилок. Но глаза, которые Кронго запомнил еще пятилетним мальчиком, голубые, прищуренные, по-прежнему, как и в его детстве, со спокойным упрямством смотрели на мир. Глаза отца оставались неизменными. Эти глаза всегда как будто высматривали что-то в Кронго. В детстве, когда отец сажал его в качалку, эти глаза будто пронизывали все насквозь.