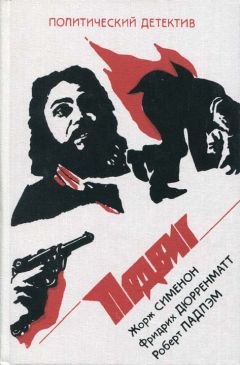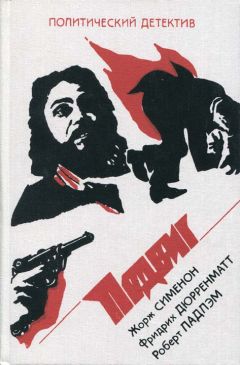— Жаль, что они не настолько любезны, чтобы оставлять нам карты, мы могли бы пока сыграть в бридж…
Они все принадлежали к одному поколению, кроме американца; впрочем, он умер раньше остальных, еще молодым, всего шестидесяти семи лет.
Они так часто мерились силами, что представляли себе очень хорошо настоящую цену друг другу. Знали друг о друге буквально все.
«Господа, по чрезвычайно важным соображениям в связи с предстоящей выборной кампанией я вынужден отбросить сегодня всякое стеснение» — так, очевидно, напишут журналисты. Итак, мы сообщим, что я стукнул кулаком по столу и что мое упрямство завело конференцию в тупик.
Обычно тенистые парки окружали роскошные отели, отведенные для подобных совещаний, и стоило одному из них отважиться выйти погулять, как он становился жертвой репортеров и фотографов.
Все пятеро привыкли к власти и славе, и все же они злились и обменивались колкостями, когда им казалось, что печать уделяет одному из них больше внимания, чем другому, и очень часто эти убеленные сединами государственные деятели, чьи портреты гравировали для почтовых марок, были обидчивы и тщеславны, как актеры.
Президент делал о них заметки на полях своей книги, но писал не обо всем, а лишь о самых характерных их чертах, особенно тех, которые имели общечеловеческое значение.
Но даже и теперь, когда, кроме сошедшего с ума Корнели, лишь один он из этой пятерки был еще жив, у него щемило сердце, если приходили письма с просьбой сообщить что-нибудь не о нем, а об одном из его старых коллег!
В Лондоне, Нью-Йорке, Стокгольме — во всем мире продолжали выходить в свет книги о каждом из пятерых, но он во что бы то ни стало хотел дать их деятельности собственную оценку.
— Я отвечу завтра. Напомните мне. Можете продолжать.
Какой-то неизвестный просил помочь ему получить место в тюремной администрации:
«Я из Эвре, как и Вы, и, когда я был молод, мой дед часто говорил мне о Вас, так как Вы жили на одной с ним улице и он хорошо Вас знал…»
Миллеран украдкой наблюдала за ним, ей казалось, что он заснул, но он делал жест своей белоснежной тонкой рукой, ставшей наконец прекрасной, как произведение искусства, давая ей понять, что она может продолжать чтение.
«Господин Президент, я обращался повсюду, стучался во все двери, на Вас последняя надежда. Весь мир говорит о Вашей человечности, о Вашем глубоком знании человеческих душ, и я не сомневаюсь, что именно Вы поймете…»
Профессиональный попрошайка.
— Не надо. Дальше.
— Все, господин Президент.
— На сегодня у меня ни с кем не предполагалось свидания?
— С испанским генералом, но он предупредил, что задерживается в Сан-Себастьяне из-за гриппа…
Он знал одного генерала, который по долголетию превзошел их всех. Президент вспоминал о нем с некоторой долей зависти и смутным раздражением. Генералу было девяносто три года, и по четвергам он, бодрый и подвижный, присутствовал на заседаниях Французской Академии, членом которой состоял. Месяцем раньше в одном еженедельнике появился репортаж об этом генерале, иллюстрированный фотографией, на которой тот был изображен в коротких штанах, с обнаженным торсом — он делал гимнастику у себя в саду, а его жена, сидя позади него на скамейке, казалось, с нежностью наблюдает за ним, как за играющим ребенком.
Стоит ли печатать подобные репортажи?
В этот самый час в Эвре Ксавье Малата готовили в последний путь… Вот кто мог больше уже ни о чем не беспокоиться. Он покончил со всем и всеми.
Всю жизнь Ксавье обуревала забота о чужих похоронах, но на его собственных не будет ни единой души, разве что какая-нибудь старая дева, как это порой бывает, безучастно побредет по улице за гробом.
Было время, когда Президента не слишком волновала смерть его родственников или знакомых: они почти всегда были старше его, и он считал, что они отжили свое, даже если уходили из жизни в пятьдесят лет.
Потом, когда начали умирать люди приблизительно одного с ним возраста, ему случалось если не радоваться, то, во всяком случае, ощущать некое эгоистическое удовлетворение.
Еще один ушел, а он оставался!
Мало-помалу, однако, круг его сверстников сужался. Пятеро Великих уходили один за другим, и каждый раз он с удивлением замечал, что ведет счет без грусти, но с таким чувством, как если бы впервые открыл, что однажды наступит и его черед.
Он никогда не присутствовал на похоронах, кроме тех исключительных случаев, когда должен был представлять правительство. Он избегал этих последних прощаний, гражданских панихид, отпеваний в церкви не потому, что они производили на него сильное впечатление, а потому, что считал все эти пышные обряды проявлением дурного вкуса.
Он посылал либо свою визитную карточку, либо кого-нибудь из чиновников и никогда не оставлял ни писем с соболезнованиями, ни телеграмм, предоставляя это своему секретариату.
Но смерть Ксавье Малата сильно повлияла на него и оказала особое действие, он затруднился бы определить, какое именно. Из-за лекарства мозг его работал в замедленном темпе, как в полусне, и между его сознанием и реальностью наступал разрыв.
Например, перед ним без конца возникал образ какой-то старой женщины с редкими волосами и длинными зубами. Бог знает, откуда она появилась. Было совершенно непонятно, почему он находил в ней сходство с Эвелиной Аршамбо, ведь в последний раз он видел ту маленькой девочкой.
Тем не менее он был совершенно уверен, что это именно она, такая, какой стала теперь. В ее глазах сквозило выражение непонятной нежности, к которой примешивался немой укор.
Она молилась о нем всю жизнь, и, без сомнения, особенно о том, чтобы перед смертью он примирился с церковью, как будто слова, сказанные священнику, могли что-либо изменить! Она сидела в кресле, как он, ноги ее были покрыты старым пледом, и от нее пахло чем-то приторным.
Он понял в конце концов, что плед был тот самый, который покрывал ноги его матери в последние недели ее жизни. Но откуда взялось все остальное?
Если бы он не боялся показаться смешным, то попросил бы Миллеран снова позвонить в Эвре, например, в мэрию, чтобы справиться об Эвелине: жива ли она, не больна ли, не нуждается ли в чем.
Он чувствовал себя очень усталым, хотя знал, что это всего лишь следствие двойной дозы лекарства. Тем не менее он испытывал тягостное чувство бессилия и, если бы имел на то право, отправился бы спать.
Соседская корова вышла из хлева и бродила по двору, натыкаясь на ветви яблони, за ней бегал мальчишка с прутиком в руках.
Этот мальчишка будет жив, когда он уже давно сойдет в могилу. Все те, кто его окружает, и огромное большинство из тех, кто ходит сейчас по земле, переживут его…
Скажет ли Эмиль когда-нибудь правду об Эберге? Очень возможно, так как Эмиль любит скабрезные истории, и, если будет смешить посетителей, ему станут больше давать на чай.
Ферма, расположенная на прибрежных скалах, была построена и превращена в дачу не Президентом, а одним руанским адвокатом, приезжавшим когда-то с семьей проводить здесь свои каникулы. Президент позднее лишь переделал кое-что по своему вкусу, в частности, соединил проходом два соседних здания, которые теперь стали широко известны как «дом в Эберге».
Не придавая никакого значения названиям, он не изменил прежнего названия усадьбы, когда купил ее.
В окрестностях ему сказали, что слово «эберг» обозначает наживку из трески, приготовленную особым способом, и, так как порт Фекан был центром рыбного промысла и весь берег Нормандии жил ловлей рыбы, он удовлетворился этим объяснением. Когда-то в этом доме, наверное, обитал рыбак или судовладелец.
Но однажды Эмиль, очищая край каменной кладки старого колодца от густых порослей хмеля, нашел грубо выбитую на камне надпись: «Эберн. 1701».
Президент случайно упомянул об этом в разговоре с учителем, который был секретарем сельской общины и приходил иногда брать книги из его библиотеки. Учитель заинтересовался и, просматривая старые описи земельных владений, обнаружил, что в них название усадьбы упоминалось в том же написании, что и на камне.
Однако никто не мог сказать, что означало это слово, и в конце концов он нашел ему объяснение в толковом словаре Литтре:
Эберне — подтирать за ребенком.
Эбернез — подтирушка, та, кто подтирает за ребенком.
Какой женщине, давным-давно здесь обитавшей, дали это прозвище, которое стало в дальнейшем названием усадьбы? И кто из последующих владельцев стыдливо решил изменить прежнюю орфографию?
Он упомянул и об этом в своих секретных мемуарах, но выйдет ли когда-нибудь эта книга? Теперь он уже не был уверен, что все еще желает этого. Он, столь стремительно принимавший важнейшие решения, когда речь шла о судьбе его страны, и никогда не сомневавшийся в своей правоте, становился нерешительным и мучился сомнениями, когда перед ним вставал вопрос, какие именно факты из своей жизни он предаст гласности.