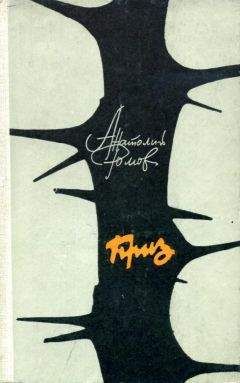Сначала он оценивал прибывающих жеребят вместе с отцом и часто видел, что оценки отца ошибочны. В конце концов Принц Дюбуа сам понял, что уступает в этом сыну, — и потом уже при просмотре молодняка и оценке новых лошадей полагался только на его чутье, зная, что Маврик, выбирая и оценивая жеребенка, никогда не ошибается.
Когда, начиная с шестнадцати, отец стал записывать сына в заезды, Кронго незаметно развил и выработал в себе еще одно качество — безошибочное чувство дистанции. Особенно хорошо он чувствовал себя на миле — стандартном однокруговом отрезке, который ощущал до последнего метра и по которому мог провести лошадь на лучшее время даже с закрытыми глазами — зная, конечно, характер лошади и состав заезда.
У них в конюшнях при тренаже и доводке неукоснительно соблюдались принципы «школы Дюбуа» — здесь отучали наездников держать лошадей «на вожжах», основу тренажа и испытаний составлял мягкий голосовой посыл, все делалось только для того, чтобы сберечь лошадь, как можно меньше насиловать и ломать ее, даже — потакать ее капризам, высвобождая тем самым заложенную в животном от природы резвость, силу характера и другие естественные качества. Проходя дистанцию в основном на отданных вожжах, с лошадьми, приученными повиноваться малейшему изменению интонации посыла, Кронго, сообразуясь с тем, кто идет с ним в заезде, всегда безошибочно определял, как построить бег. Как начинать именно этот заезд, сразу ли показывать намерение или скрыть его до середины дистанции, занимать ли бровку с первых метров или на первой четверти идти полями. Кронго всегда безошибочно чувствовал пейс, ритм бега, и обычно уже после второй четверти знал, с какой именно точки дистанции и как нужно начинать ускорение и прибавлять. Именно — как прибавлять. И тогда уже, если он ловил эту точку, ничто не могло ему помешать довести лошадь до финиша и — если надо и класс лошади позволяет — вырвать победу на последних метрах, чувствуя еще в рысаке оставшийся запас сил.
Ничему этому он, по существу, не учился. Конечно, еще мальчиком Кронго узнал основы, прописные истины, азы того, как должен вести себя наездник на дистанции. Знал, что есть лошади с хорошим финишем, концевые, или, наоборот, ровно идущие всю дистанцию, те, кого наездники называют «машинами». Знал, что позиция у бровки сокращает дистанцию, но чревата потерями при отвороте и обгоне, зато ход с поля дает простор для разъездки. Знал он также множество других прописных истин — но ведь все это знали и другие наездники, не только он… Он понял это. Наездники на ипподроме совершенствовали свое знание дистанции бесконечно. Но — ошибались. И он, сам допустив несколько ошибок, потом при оценке дистанции выработал для себя железный принцип — никогда не полагаться на общепринятые правила. Ведь он видел, что правила дистанции знает и отец, — но все-таки сколько раз, и именно в силу верного следования правилам, ошибался и он, его отец, великий Принц… Знание, истинное, скрытое от всех знание дистанции пришло к Кронго тогда, когда он понял, ощутил всем существом, что нет правил. Нет, их нет — вот в чем был секрет. Или — они есть, но они, эти правила, состоят из бесчисленного множества каждый раз меняющихся обстоятельств. Обстоятельств, на которые нельзя полагаться. Чувство дистанции зависит от великого множества соотношений сил, характеров, манеры бега, порядка и класса, от качеств десятка, если не больше, лошадей, которые участвуют в каждом новом заезде. Оно, это чувство, зависит также от соотношения целей наездников, от состояния дорожки, погоды, даже — от того, как настроены в этот день зрители. Кронго много раз наблюдал, как, складываясь в неожиданные сочетания, обстоятельства заезда заставляют ошибаться самых опытных наездников, даже — корифеев, седоков вроде знаменитых Томсона и Княжинского.
Дистанция вырывалась, ускользала, уплывала от них. Точка ускорения вдруг оказывалась не там, бровку занимал кто-то другой, всегда послушная лошадь вдруг словно прилипала к затылку едущего впереди наездника и не хотела отворачивать, заведомые финишеры с самого начала вырывались вперед на три столба… Все было не так, все становилось с ног на голову. Поняв это, Кронго на дистанции полагался только на свое чутье. На то шестое чувство, которое ощутил, которое проверил и которое его не подводило. Он скрывал это чувство от всех, он берег его, боялся потерять. Кронго понимал — в этом чувстве была кажущаяся легкость. Да, он знал: это ощущение, живущее в нем всегда, ощущение абсолютной ясности при прохождении кругового отрезка, это возникавшее каждый раз понимание, как нужно вести заезд, не вечно. Его можно потерять, хотя оно и дано ему, преподнесено судьбой. Хотя оно легко, свободно, хотя оно присуще ему, как дыхание. Но его можно потерять, оно может превратиться в пустоту, фальшь. Испытав эту кажущуюся легкость, Кронго познал, как хрупко это бесценное свойство. Он понял, как много оно значит для него, и потом уже боялся упустить — до возникавшего в нем беспричинного страха, до неожиданно потевших ладоней, до суеверия. Нельзя было играть на себя; нельзя было говорить об этом чувстве; нельзя было им злоупотреблять.
Именно потому, что Кронго знал свои силы, он, вернувшись в Париж, ощутив в себе после возвращения перемену, почувствовал себя виноватым — перед отцом. Виноватым в том, что до сих пор оставался сторонним наблюдателем. Может быть, он был даже сильней отца — и тем не менее не верил в удачу заговора, а значит — просто не мог помочь отцу так, как должен был это сделать.
До дня розыгрыша Приза оставалось еще довольно много времени, когда мсье Линеман, улучив момент, зашел к ним в жокейскую. Кронго хорошо помнит — он притворил дверь и, подумав, повернул ключ.
— Слушайте, Эрнест, — мсье Линеман сел. — Нам надо поговорить.
Лицо мсье Линемана, круглое, доброе, жило сейчас какими-то другими заботами, было, как, впрочем, это всегда казалось Кронго, далеким от конюшни, от ее дел. Казалось, мсье Линемана занимает что-то другое, а не разговор с отцом. Впрочем, для человека, владевшего не только конюшней, такое выражение лица было естественным. Но было ясно, что сейчас мсье Линеман действительно решил поговорить о чем-то важном. По крайней мере, о деле, давно занимающем его мысли, поговорить с присущим ему, как всегда, тактом. Может быть, даже о Гугенотке — хотя при подписании контракта было оговорено условие, что продюсер занимается только финансовыми делами.
— Да, мсье Линеман, — отец после утренней проездки стянул сапоги, расстегнул рабочие панталоны и теперь отдыхал, полулежа на диване.
— Эрнест, извините — вы знаете, я никогда не лез в ваши дела. Но… мне кажется… Гугенотка…
— Что — Гугенотка?
— Ну, Эрнест. Она у вас не взяла ни одного квалификационного заезда. И… по-моему, вы темните.
— Мсье Линеман, — отец приподнялся.
— Эрнест! — мсье Линеман поднял руку. — Я бы ни слова вам не говорил. Ну? Эрнест, милый… Вы понимаете в лошадях в тысячу раз больше, чем я. И вообще… Мне повезло, что мы работаем с вами. Но, Эрнест… я просто думаю… о вас.
Отец молчал, делая вид, что не слышит.
— Скажите прямо — вы с Морисом собираетесь записывать Гугенотку на Приз?
Было слышно, как кто-то остановился у двери жокейской и, подождав, отошел. Кажется, это был Диомель.
— Эрнест… — мсье Линеман вздохнул. — Хорошо, вы можете не верить, что я дружески беспокоюсь о вас. Но ведь — есть лошади. И… как-то… Мы вроде бы владеем ими вместе.
— А что — лошади? — отец привстал. — Лошади здесь ни при чем.
— Эрнест, не валяйте дурака. Не будем детьми. Не связывайтесь с Тасма.
— Хорошо, — было видно, что отец начинает сердиться. — Что с ними может произойти? С лошадьми?
— Эрнест… Вам что — мало случая с Ришаром? Или — вы плохо знаете Генерала? В конце концов — лошадей могут просто отравить.
Отец молчал.
— Да, я понимаю, стыдно говорить об этом. Но пока мы ничего изменить не можем.
— Но ведь я тоже не дурак. И у меня есть глаза. Потом в конюшне есть хорошие конюхи. В конце концов — есть Диомель.
— Диомель… Вы понимаете, Эрнест, — если Тасма возьмется за вас всерьез, один Диомель с тремя конюхами… Вы понимаете. Они ничего не сделают.
— Я сделаю. Я ведь тоже что-то значу.
Мсье Линеман вздохнул.
— Учтите — скорей всего… первого места вы не возьмете. Но если Генерал только по тому, как вы едете, поймет, что вы взбунтовались, а главное — затемнили Гугенотку, он не простит вам этого. Вы понимаете, Дюбуа? Генерал не простит. И что-то сделает. И сделает это в назидание остальным. Для него это значит слишком много.
— Кто кому должен прощать, мсье Линеман?
— Я сейчас не об этом. Ну же, Эрнест. Ну… У нас с вами ведь другие отношения. Поймите — я не только умом… я ведь и сердцем… за вас. И потом — взять Приз. Ну — кто не мечтал об этом. В конце концов, со мной ничего не случится, даже если отравят лошадь. Ну — пусть двух, трех. Пусть я на этом потеряю несколько тысяч. Переживу — терял и больше. Но вы понимаете, что будет с вами? Эрнест?