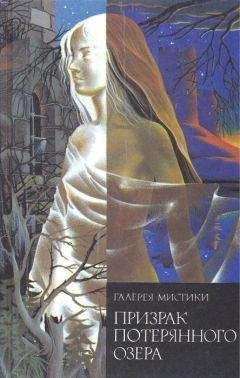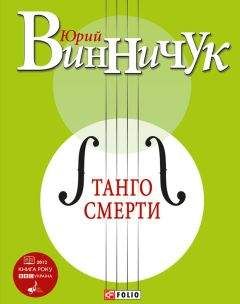– Ну да! Вы, конечно же, слышали об этой бестии. Тогда его звали именно Бруно Мессер. Полагаю, теперь у него другое имя… Они пообещали Герману хорошо заплатить, намекнув, что имеют доступ к так называемой «кассе Бормана»[16].
– Деньги партии?
– Именно! Те самые, что не найдены до сих пор! К тому же они брали деньги со всех участников этого страшного проекта. Каждый отдавал кучу золота, драгоценностей – короче говоря, все то, что было награблено этими людьми. Я даже говорить не берусь о происхождении всего этого… этих колец, камней, золотых слитков. Герман рассказывал, что видел полный чемодан этого… горя людского. Он говорил, что его тошнило от трупного запаха… Даже кожа этих ублюдков, которую он резал и штопал, пахла смертью…
Якобсен решительно выдохнул, опрокинул в себя полстакана водки и, сморщившись, занюхал выпитое куском хлеба.
– Выпей! – сипло выговорил он. – Надо обязательно выпить.
– Потом… А как он вам все это рассказывал? Он же…
– Да-да, ты прав. Он не говорил, как обычные люди, а шипел, так как у него была атрофия голосовых связок. Отдельные слова писал на бумаге… При этом он еще страшно заикался. Но можно было привыкнуть. Я понимал все, что он хотел сказать. Только мы двое и понимали: я и она – его жена лупоглазая… У-у-у, стерва! – Якобсен вывалил из орбит покрасневшие от натуги глаза, намекая на то, что фрау Шевалье имела явные признаки базедовой болезни.
– За что вы ее так не любите?
– А за что ее любить? За то, что она всю жизнь тянула из Германа деньги? Потом… одним словом, мне известно, что это она надоумила Вилли обратиться к услугам Германа. Не исключаю, что и появление Мессера как его клиента – это тоже она… Да и вообще, по слухам, Герман был рогоносцем. Она изменяла ему с этим подонком, я имею в виду Вилли…
– Давайте лучше про архив… – перебил профессора Каленин. Он боялся, что постельные тайны семейства Шевалье уведут рассказчика далеко от нужной темы.
– Да… Архив. – Якобсен задумался. – Германа увезли куда-то под Берлин. Он в течение нескольких месяцев делал операции. Это был конвейер. Вскоре стало понятно, что Вилли не контролирует ситуацию, что всем заправляет Бруно. А Мессер – это человек, привыкший шагать по трупам. Он не страдал тем, что принято называть человеческой благодарностью. Герман сразу догадался, что по окончании последней операции его ждут вовсе не деньги, до которых он даже дотронуться не смог бы, а непременный выстрел в затылок. И беспутный брат его не спасет. Вот тогда он и придумал гениальный выход из, казалось бы, абсолютно безвыходной ситуации.
Якобсен взглянул на Каленина и неожиданно спросил:
– Ты кто по национальности? Я знаю, что в России очень много наций – кроме русских и украинцев, есть одесситы, казаки, турки…
Каленин улыбнулся.
– Турок у нас нет. Одесситы и казаки – это не нация. А я русский… По крайней мере папа и мама русские. А почему вы спрашиваете?
Якобсен вздохнул:
– Имя нерусское – Беркас. И не пьешь совсем к тому же. Русских я много видел на войне и после нее. Непьющих русских не бывает! Я однажды с русскими пить отказался – это уже в лагере было. Так они меня чуть не расстреляли. Может, выпьешь, а?
Беркас молча поднял высокий стакан с водкой, который наполовину был наполнен льдом, выпил его содержимое залпом и захрустел кусочками льда, ловя восхищенный взгляд профессора.
– Занюхай! – предложил тот.
– Русские после первой не занюхивают… И что же ваш доктор? Как он спасся?
– Герман был не только великим врачом, но и замечательным художником. Причем обладал даром рисовать по памяти.
– Да-да, кое-что я видел. Это действительно великолепная графика. Очень точно передает характер.
– Предчувствуя страшный финал, он пошел ва-банк: показал Мессеру несколько своих рисунков, включая портрет самого Бруно. Сказал, что тайно рисовал каждого пациента – как до операции, так и после. Причем объяснил, что составил на каждого обширное медицинское досье: всякие там особенности операции, родимые пятна, родинки, шрамы, следы от ранений. Его расчет был безупречен: он сказал этому Бруно, что у него готов полный комплект всех рисунков и что он сумел передать его надежному человеку.
Они стали его зверски пытать, пытаясь выведать, где спрятан этот компромат. Тогда-то, кстати сказать, Герман и лишился речи – видимо, от пыток и сильнейшего нервного потрясения. Но он стоял на том, что сразу после его гибели все рисунки немедленно будут у русских. И наоборот, пока он жив, внушал им Герман, ему нет никакой нужды сообщать о проделанных операциях, поскольку среди прооперированных – его родной брат Вилли, а кроме того, в этом случае сам Герман тоже, мол, попадает под удар как человек, способствующий уходу от возмездия нацистских преступников. Тут еще и Вилли вмешался, сумевший убедить Мессера, что не надо искушать судьбу…
– А он что, этот ваш доктор Шевалье, действительно был готов передать рисунки русским?
– Думаю, он блефовал. Скорее всего это был сюрпляс…
– Что-что?
– Есть в велоспорте такой прием: когда имитируют атаку, чтобы ввести соперника в заблуждение… Думаю, он сначала нарисовал только то, что показал Мессеру. Несколько портретов. А все остальное сделал потом – по памяти.
– Да! Для этого нужно иметь огромное самообладание. Мессер мог ему и не поверить.
– А он и не поверил. Он до последнего настаивал на том, что надо Герману навсегда заткнуть рот. А потом нехотя уступил, но при этом сделал несколько компрометирующих фотографий, на которых было изображено, как доктор Шевалье в подпольной клинике делает пластические операции военным преступникам. Причем достоверность этим кадрам должно было придать то, что среди пациентов доктора был запечатлен и сам Мартин Борман, который якобы тоже воспользовался услугами Шевалье. Кстати сказать, именно эта фотография – реального Бормана в реальной клинике доктора Шевалье, который действительно устанавливал начальнику гитлеровской канцелярии съемные зубные протезы, – позже послужила основанием для многочисленных версий о том, что Борман будто бы спасся и до сих пор жив…
Одним словом, после нечеловеческих пыток Германа отпустили. Это был уже апрель 1945 года. Трудно понять, как он все это выдержал. Врачи, которые его обследовали после этой истории – а длилась она почти пять месяцев, – говорили, что он и года не протянет. Искалечили его страшно… Но Герман выжил и создал-таки свой архив. Он никому его не показывал все эти годы. Даже мне, хотя я знал эту историю в подробностях от самого Германа.
– А что стало с его пациентами?
– Разбежались кто куда – главным образом в Латинскую Америку, Австралию и Южную Африку. Кого-то из них позже арестовали, кто-то умер своей смертью. Но, как ни странно, ни в одном из случаев не возникло имя доктора Шевалье. Может быть, как раз потому, что попадались эти наци вовсе не из-за Германа, и это было лучшим подтверждением, что он продолжает хранить свою тайну. Да, кстати, – оживился Якобсен, – в этой истории есть еще одна немаловажная деталь: буквально через неделю после того, как Шевалье был отпущен домой, появилось сообщение, что погиб Бруно Мессер. Самолет, на котором он пытался пересечь Атлантику, был сбит американцами. Обломки упали в океан. Никому из пассажиров и членов экипажа спастись не удалось…
– Все это, конечно, очень любопытно, – задумчиво произнес Каленин, – только я одного не пойму: зачем и кому нужен этот архив сегодня? Меня, если верить докторше, чуть не искалечили из-за него. – Каленин машинально потрогал опухоль, которая инородным телом висела на щеке и, казалось, делала правую часть головы тяжелее левой.
– Герман рассказал мне про архив лет десять назад, – отозвался Якобсен. – Он долго хранил свой секрет и раскрыл только тогда, когда, как он полагал, эта ситуация потеряла всякую свежесть.
– Неужели у него никогда не возникал соблазн отомстить обидчикам?
– Не возникал! Напротив, когда я однажды намекнул, что мог бы предать эту историю огласке и начать искать его клиентов, доктор буквально взял с меня страшную клятву, что я не стану этого делать.
– И почему, как вы думаете?
– Думаю, из-за Вилли! Он же все эти годы знал, где тот скрывается. Но, представьте себе, где-то за год до смерти он неожиданно резко изменился. Стал замкнутым, скрытным, раздражительным. И, наконец, как-то признался мне, что у Вилли большие проблемы, в которые каким-то образом втянут и он, Герман. Что произошло – я не знаю. Но было видно, что его что-то очень сильно угнетает. И только накануне своей странной смерти он вдруг просветлел, стал веселым и жизнерадостным. А потом… потом случилось это несчастье. И, черт побери, чует мое беспокойное сердце, что этот архив имеет прямое отношение к его смерти. Вот почему я стал его искать.