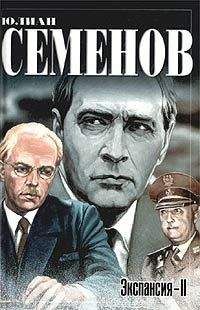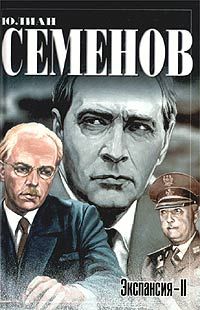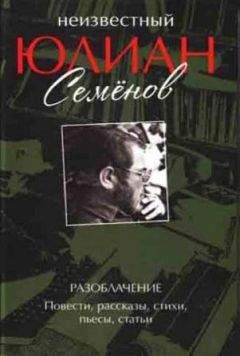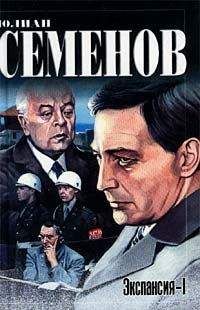— В каком лагере его сожгли? — Эллэн усмехнулся. — Или вы спасли его от гибели? Советую впредь не оперировать фразами вроде этой… Геринг в Нюрнберге клялся, что у него были приятели иудейского вероисповедания. Это, однако, вызывало презрительный смех присутствующих… Могу вам подсказать линию поведения в этом горестном вопросе… Упирайте на то, что вы, как военный стратег, знали, что государственный антисемитизм по отношению к арабам и евреям — и те, и другие семиты — привел к краху такое великое государство, каким была Испания, низведя ее до уровня третьесортной страны на задворках Европы, настаивайте, что русская империя во многом пала из-за своей неразумной национальной политики, большевики, встав на защиту притесняемых, свергли трехсотлетнюю монархию…
— Большевики свергли монархию, потому что та изжила себя, став поперек объективного хода исторического развития.
Эллэн кивнул:
— Согласен. Но вы жмите на свое, это — в вашу пользу.
— Простите, а вы сами-то… кто?
— Католик, — ответил Эллэн. — В отличие от паршивого рейха, в демократических странах средневековый вопрос чистоты крови изжит… Если я принял католичество — я католик. И все тут. Точка… Настаивайте на том, что вы верите в закон аналогов, вы боялись повторения былых катастроф, поэтому не могли быть автором бесчеловечных антиславянских и антисемитских приказов… Впрочем, вы вправе не верить мне, Хойзингер… Я же не верю ни одному вашему слову… К сожалению, вы нужны нам, только поэтому я собеседую с вами, а не присутствую на мрачной церемонии вашего повешения… Я вам не верю ни на йоту, особенно после ознакомления вот с этим документом, — и Эллэн подвинул генералу текст расшифрованной записи беседы Гитлера с Хойзингером в сентябре сорок четвертого года, после того, как все герои заговора были повешены на рояльных струнах, причем вешали их не сразу, а подцепляли под ребра крюком, который используют на мясобойнях, и бросали на помост, причем делали это на глазах у других арестованных, в свете юпитеров, ибо Гитлер приказал снять казнь на пленку — от первой до последней минуты…
Читайте, читайте, Хойзингер, читайте, я понимаю, что страшно, но — надо, меня просили ознакомить вас с этим материалом.
«Гитлер. — Сожалею, что и вам пришлось отвечать на вопросы следователей… Я не имел права вмешиваться, порядок есть порядок… Кейтель также отвечал на вопросы, не сердитесь, Хойзингер, жизнь — суровая штука…
Хойзингер. — Мой фюрер, я счастлив, что все позади и правда восторжествовала.
Гитлер. — Ваша записка, составленная в госпитале, произвела на меня сложное впечатление… Я благодарю вас за то, что вы написали правду о тех вероятных просчетах, которые имели место, но вы же понимаете, что мы с вами взяли на себя тяжкое бремя сражения против самого страшного чудовища, которое когда-либо появлялось на земле, — против большевистского еврейства… Я не мог корректировать то, чему посвятил жизнь… Не думайте, что мне так просто увязывать все воедино — экономику, пропаганду, армию, ветеранов, профсоюзы… Каждое ведомство отстаивает свое, я — высший арбитр… Да и потом разве может вождь открывать потаенный смысл каждого своего решения? Что бы у нас получилось с Францией, если бы я позволил вам заранее опубликовать проект военной кампании? (Смех.) Вы бы потребовали моего отстранения, не правда ли? Вы, конечно, понимаете, что теперь, когда мы очистились от внутренней скверны, уничтожив банду изменников, все пойдет к лучшему?
Хойзингер. — Да, мой фюрер. Если, конечно, вы развяжете руки верным вам генералам: очень трудно ждать приказа из ставки день, а то и два, тогда как решение надо принимать в течение часа, а иногда и минуты…
Гитлер. — Просто следует улучшить работу связи… Надо, чтобы мои решения доходили до командующих фронтами незамедлительно.
Хойзингер. — Мой фюрер, поверьте тем, кто в горький час двадцатого июля доказал вам свою преданность, они же опытные военачальники, дайте им право на самостоятельность…
Гитлер. — Я никогда не откажусь от своего призвания быть верховным главнокомандующим, Хойзингер! Запомните это раз и навсегда! Только я знаю, что нужно фронту! Только я, воплощение идеи национального социализма, вправе принимать кардинальные решения, я — и никто другой! Словом, поздравляю вас с заслуженной наградой, вы удостоены серебряной медали «Двадцатое июля 1944 года, Адольф Гитлер». Первую медаль я вручил Борману. Вторую — Гиммлеру. Ваш знак имеет порядковый номер сорок семь. Поздравляю вас также с новым назначением: партия национал-социалистов направляет вас главнокомандующим гренадеров фольксштурма, это бастион нации, оплот рейха, они остановят большевистские полчища и алчную свору американских плутократов».
Хойзингер тяжело сглотнул, во рту пересохло; какой ужас эти архивы! Зачем только человечество придумало их?!
Эллэн усмехнулся:
— Что, страшно?
— Это фальсификация… В тот день я сказал фюреру, что ему не удастся понудить генералов к беспрекословному подчинению! Это люди высокой культуры, которые вполне могут принимать самостоятельные решения в борьбе против большевизма…
— Вот и запишите об этом в своих новых показаниях, — Эллэн снова усмехнулся. — Сочиняйте свою версию, правьте документ, который я вам показал, думайте об истории, Хойзингер, только тогда перед вами откроется будущее… Вы ведь дали согласие на сотрудничество с нами?
— Если вы имеете право задавать подобные вопросы своему начальству, задавайте. Мне не надо. Я солдат, я верен слову германского солдата.
Эллэн открыл третью папку, достал маленький листок клетчатой бумаги; этой низостью — обязательством работать на военную контрразведку янки — Хойзингера вымазал юркий мальчишка-лейтенант еще третьего мая, когда он только сдался в плен под Гарцем; лейтенант оскорблял его и сулил немедленную казнь, если «нацистская сволочь не подпишет обязательство»; подписал, куда денешься; главное — переждать трудное время, а оно всегда самое трудное после крутых сломов, потом все возвращается на круги своя…
— Вот вам спички, — усмехнулся Эллэн, — можете сжечь бумажку, спите впредь спокойно.
…Через неделю к нему приехал Гелен; еще через три недели состоялась вторая встреча, в госпитале; дал согласие работать на возрождающуюся разведку, — огромное, воистину бесценное приобретение; именно поэтому «Вагнер» так торопился составить отчет для Даллеса, не отдав должного информации, пришедшей от Рихарда Баума из Барилоче; оценил ее утром, прогулявшись по дубовому парку, наполненному пением птиц и запахом прелых листьев, непередаваемый, единственный, успокаивающий хмель земли; ах, бог ты мой, скорее бы несчастный Хойзингер оказался здесь, рядом со мною, а не в лагере; как все же несправедлива жизнь к лучшим ее защитникам, солдатам!
…После работы с такой глыбой, каким Гелен по праву считал Хойзингера, после того, как вопрос о его освобождении был, с помощью Даллеса, решен, лишь после этого он — с новым вдохновением — вернулся к текучке.
И первым документом, который он проработал, было сообщение из резидентуры в Барилоче; план, разработанный в Мюнхене для Рихарда Баума и Ганса Крочке, обретал форму реальной комбинации: офицеры разведки подставились под Штирлица и «сдались, припертые им к стенке»; Штирлиц, в свою очередь, не мог не заинтересоваться данными о материалах, спрятанных Мигелем Оссорио, — секретных папках комиссии сената по антинацистской деятельности; разведка Перона летом сорок третьего года — во время военного переворота — не успела захватить их, а ведь это связи военных с организованным, широко разветвленным немецким подпольем времен войны, дорогого стоит.
Получив эти данные, — а, видимо, он их получит, агент высочайшего класса, жаль, что не с нами, — Штирлиц, уже повязанный с Оссорио, одним из лидеров демохристианской оппозиции, при этом еще ставленник Роумэна, человека московских посланников Брехта и Эйслера, будет ждать решения своей судьбы; без Даллеса в данном случае нет смысла предпринимать никаких шагов, хотя, видимо, если со Штирлицем не удастся договориться добром о чистосердечном признании на открытом процессе о шпионаже в пользу Москвы, — сценарий вчерне готов — он будет нейтрализован там же, в Аргентине; жаль, Гелен уважал профессионалов.
Штирлиц, Клаудиа (Барилоче, сорок седьмой)
Первая группа туристов принесла Штирлицу семьсот долларов чистого дохода.
Вторая группа дала еще больше денег — тысячу пятьсот баков; Отто Вальтер, вернувшийся из госпиталя, принял Штирлица в дело, потребовав себе двадцать процентов доходов, хотя по всем законам не мог претендовать более чем на десять; Штирлиц не спорил, он жил как спортсмен перед решающим сражением, понимая, что ему отпущены не дни, а часы; он теперь знал, что надо сделать, однако откладывал коронное дело, пока не получил то, без чего не мог его начать.