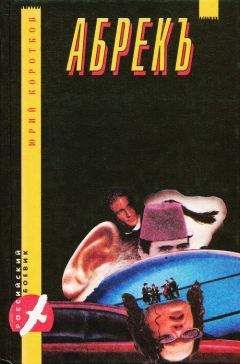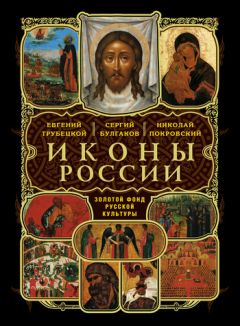оставалось сомнений, что действительно горит чей-то дом.
— Ох же, мать твою! — засуетился Овечкин, бросившись бегом в комнату, где уже хлопотала жена.
— Чего там? — вскинулась она.
— Пожар!
Схватил телефонную трубку, набрал номер дежурного пожарной части, что располагалась неподалеку от Удино.
— Капитан Овечкин! У нас тут…
— Все ясно, Степаныч, угомонись, — осадил его вальяжный, с легкой ленцой голос дежурного. — Нам уже звонили. С минуты на минуту ждите машины.
— С минуты на минуту… — пробурчал Овечкин, бросив на рычажки допотопную эбонитовую трубку. — Знаем мы ваши «минуты». Пока не сгорит до конца.
— Ты можешь толком сказать, кто горит-то? — послышался испуганный голос жены.
— Не знаю!
Сунув ноги в старые керзачи, что стояли в сенях, он схватил с вешалки столь же поношенную брезентовую куртку и бросился бегом из дома.
По улице уже бежали испуганные удинцы — кто с ведрами, кто с лопатой или вилами, однако из-за разросшихся яблоневых садов огня не было видно, и только когда Овечкин свернул на улицу, которая вела к почте, он увидел огненные всполохи, которые уже освещали большую часть проулка.
— Господи, кого же это?.. — послышался испуганный женский голос, и тут же ответ, заставивший Овечкина броситься вперед:
— Кажись, иконописца дом… Ушакова.
Ошарашенный увиденным, он стоял в десяти метрах от схваченного огнем дома, всматривался в проемы окон, в которых бесновались снопы огня, и отчего-то вспоминая видение Ушакова, уже верил и не верил своим глазам.
Вздрогнул от женского вскрика, раздавшегося за спиной:
— А сам-то что… Ефрем?
— Сгорел. Заживо сгорел… Говорят, будто разом всё полыхнуло, не успел выскочить.
Выждав два дня после похорон Державина, Головко позвонил Злате и, попросив разрешения приехать к ним домой, чтобы побеседовать с Ольгой Викентьевной, в десять утра нажимал потертую кнопку звонка над металлической дверью, обшитой коричневым дерматином. Открыла Злата и, приняв от него букетик из первых весенних цветов и любимый Семеном бисквитный торт, пригласила в небольшую светлую комнату, насквозь пропитанную запахом лекарств и каких-то особо вонючих мазей.
Семен заметил в дверях, что вели на кухню, высокую поджаристую женщину, на которую Злата, казалось, даже не обратила внимания, и этот небольшой нюанс показался ему в подобной обстановке довольно странным. Судя по всему, эта женщина доводилась родной сестрой ее матери, и столь откровенно проигнорировать ее появление…
— Знакомьтесь, это моя мама, — негромко произнесла Злата, погладив по голове приподнявшуюся на подушках женщину. Еще очень красивую и совершенно седую. — А это, мама, тот самый следователь, о котором я тебе говорила.
— Надеюсь, не самое плохое? — улыбнулся Головко.
— Моя девочка на подобное не способна, — отвечая улыбкой на улыбку, произнесла Ольга Викентьевна. — Кстати, можно я буду называть вас просто Семеном?
— Буду весьма признателен.
— Ну вот и познакомились, — резюмировала Злата. — Так что, разговаривайте, а я пошла на кухню. Кстати, Семен, вы зеленый пьете в это время или все-таки черный?
— Вообще-то, по утрам предпочитаю крепко заваренный черный, но если с кусочком торта… да еще с розочкой из крема… тогда можно и зеленый.
— Гурман, однако, — рассмеялась Злата и, наградив Семена поощрительным взглядом, прошествовала на кухню.
— Присаживайтесь, — кивнув на мягкий, с гнутыми спинками стул, предложила Ольга Викентьевна, и ее глаза наполнились неподдельной тоской. — Насколько я догадываюсь, вы пришли поговорить относительно Игоря Мстиславовича?
— Совершенно точно, — кивком головы подтвердил Головко, исподволь рассматривая хозяйку дома. Да, именно такой он и представлял ее, когда задумывался над тем, какую женщину мог любить все эти тридцать лет вынужденный эмигрант Державин, так и не ставший полноценным американцем. Видимо, очень красивая в юности, она не растеряла свою красоту и по сей день, которая трансформировалась в какое-то особое благородство, которым отличалась дворянская элита дореволюционного российского общества.
— Что, сравниваете меня с Игорем Мстиславовичем? — уголками губ улыбнулась Ольга Викентьевна, видимо, уловив мысли следователя. — Что ж, могу вас заверить, что мы были достойной парой.
Она замолчала и, видимо, чтобы не расплакаться от воспоминаний о несбыточно-прошлом, изобразила на лице некое подобие улыбки. Жалкой и всепрощающей одновременно.
— Просто вы очень красивая, — немного растерявшись, признался Головко.
— Была, — с грустью в голосе произнесла Ольга Викентьевна и, глубоко вздохнув, словно тем самым сбрасывала с себя накопившийся осадок последних лет, блеснула совершенно ровными зубами, которым могла бы позавидовать любая голливудская прима. — Впрочем, что это мы все обо мне да обо мне, спрашивайте. Злата сказала, что вы хотели бы уточнить кое-что относительно Игоря Мстиславовича. Если, конечно, я правильно поняла.
Он не был готов к столь резкому переходу и даже вынужден был откашляться в кулачок.
— Видите ли, я хотел бы побольше узнать об Игоре Мстиславовиче тех лет, когда он еще жил в Москве… — И замолчал, не сумев подыскать нужных слов.
— Чтобы узнать, чем дышал и чем жил он в советские годы? — пришла на помощь Ольга Викентьевна.
— Не совсем так, хотя, пожалуй, в чем-то вы правы. Насколько я могу предполагать, в Москве он должен был выяснить нечто такое, что касалось его жизни до эмиграции. Точнее говоря, той жизни, когда он еще работал в Третьяковке под началом Луки Михеича Ушакова…
И он вкратце пересказал ей то, что ему рассказал граф Воронцов, а также о телефонном звонке Державина Ефрему Ушакову, к которому, как теперь начал догадываться Головко, был какой-то серьезный разговор.
— «Спас» Андрея Рублева?! На аукционе в Нью-Йорке?.. — удивлению Мансуровой, казалось, не будет предела. И наконец резкое, словно приговор: — Это исключено!
— Почему? — удивленный ее категоричностью, воскликнул Семен
— Да потому, молодой человек, что все то, что могло появиться по Рублеву, уже давным-давно проявлено и озвучено.
Какое-то время Семен молчал, переваривая столь жесткое утверждение, наконец произнес негромко:
— А вы… вы не ошибаетесь? Вы на этом настаиваете?
На лице Ольги Викентьевны застыла маска высокомерно-снисходительного удивления, однако она все-таки нашла в себе силы снизойти к невежеству нахального гостя:
— Настаиваю, молодой человек, настаиваю! И должна вам заметить, не ошибаюсь.
— В таком случае что же?.. Даже в частных коллекциях не может быть икон Рублева, не известных коллекционерам и специалистам?
— К великому сожалению, это действительно так.
— Но в таком случае «Спас», выставленный на аукцион в Нью-Йорке?..
— Удивлена!
— Удивлены, — схватился за соломинку Головко, — но при этом исключаете возможность…
— Исключаю, молодой человек! Полностью исключаю.
Восстанавливая в памяти телефонный разговор с Воронцовым, который несмотря ни на что, продолжал верить в подлинность Рублевского «Спаса», Семен начал заводиться от «эстетического» высокомерия Мансуровой, и ему ничего не оставалось более, как привести последний довод в пользу «настоящего» Рублева:
— Простите за возможно глупый вопрос, но… Скажите,