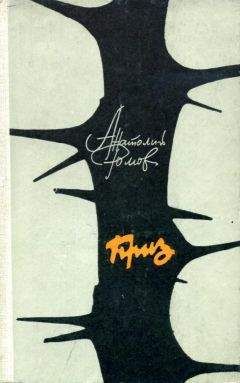Белая кайма, с неизменным постоянством возникавшая вокруг пологих волн внизу, стала уже, спокойней… Духота почти прошла. Омегву умер три года назад. Последние месяцы, даже — годы они почти не виделись… Почти? Нет — совсем не виделись. Сейчас он спрашивает себя — почему?.. И объясняет себе — он был занят лошадьми… Потом — к Омегву было трудно попасть… Занят лошадьми… Трудно попасть… Обычные объяснения… Никчемные, ненужные.
Он хорошо помнит похороны. Площадь, забитую людьми. Гроб с телом Омегву — где-то далеко, через людское море… Ему тогда казалось — рядом с траурными флагами на стенах, с непрерывно звучащей музыкой многих оркестров, с пышными торжествами сам Омегву, лежащий в гробу, был чем-то лишним. Его смерть не вязалась с этими торжествами, они были чужды ему, чужды его духу… Духу того Омегву, которого он знал. Он вспомнил слова Бангу — тогда, после купанья, на берегу озера: «Я приехал сюда, чтобы забыть о смерти». Забыть — о смерти… Забыл ли Омегву о смерти потом?
Следующим президентом после Омегву стал Лиоре. «Узурпатор Лиоре» — так его называют теперь. Но Лиоре не был узурпатором… Лиоре был законно избранным президентом.
Кронго вытянул ноги, закинул голову. Наверху ослепительно ярко сверкали и дымились звезды, словно белые осколки. Их было много, удивительно много, и он ощутил, как они всемогуще тихо висят над всем — над ним, над берегом, над океаном, над землей. И даже больше, чем над землей, — они висят над солнцем, над тысячами других солнц, над миллионами солнц, и в то же время они висят над ним. Он почувствовал, как кто-то ползет по руке, понял, что это цветочный таракан, быстро стряхнул его. Далекий нечеловеческий беспорядок этих дымящихся, тлеющих осколков наверху вдруг показался ему порядком — таким же неестественным, нечеловеческим. Он словно плыл над ним. Он вспомнил загадку, которую они задавали друг другу в детстве. Звезды — выступы или отверстия… И, осознав, что этот страшный порядок плывет сейчас над ним, Кронго вдруг почувствовал, что и он, маленький комок, распростертый в шезлонге, плывет сейчас над этим дымящимся бесконечным заревом. Но странно, почему, плывя в этот момент над сверкающей бездной осколков, он думает о цветочном таракане, который снова поднялся и мягко ползет по его руке. Ведь этот таракан, это раздражающе сладкое ощущение лапок, мелко перебирающих по коже, полностью в его власти. Слабое движение руки, намек на желание — и таракана не будет. Тараканов много, и оттого, что Кронго раздавит именно этого, мягко ползущего по его коже, ничто не изменится. Кронго опять попытался поймать ощущение, что не бесконечно сияющие звезды плывут над ним, а он плывет над бесшумно вздрагивающими внизу дымящимися точками. Но ведь он вынужден будет запомнить этого таракана. Запомнить, что он его раздавил — только оттого, что это было в его власти. Может быть, для таракана в таком случае ничего и не изменится. Но вдруг изменится что-то внутри самого Кронго? Вот ему показалось, что что-то еле заметно вздрогнуло и изменилось там, наверху, в извечной сверкающей расстановке. Он услышал шум океана и писк чаек. Небо придвинулось, и он вспомнил беговую дорожку. Потом Фелицию. Потом перед ним снова возникла упругая, вздрагивающая репица хвоста с коротким черным султаном волос. Ровно, безостановочно работающий круп. Альпак. Кронго улыбнулся, думая о таракане. Что бы там ни было, но для него, Кронго, всю жизнь было возможно единственное счастье — кратковременное, мгновенное счастье победителя. И оно сейчас в том, что он представляет, как сидит в качалке, уперев ноги в передок, и чувствует, как он приподнимает вожжи и как ветер, туго облепивший лицо, становится сильнее. Кажется, с таким ходом он не побоится выйти на любую дорожку. Кого бы Кронго мог поставить сейчас с собой рядом, в борьбе за воображаемый Приз? Теперь на мировой арене царят новые наездники, Генерала давно уже нет. Кого же он хотел бы опередить? Лучшую лошадь Франции? Да, конечно. Победителя Кубка Глазго этого года? Кроме того, есть один австралиец, о нем писали… А Ганновер-Рекорд, непобедимый американец, не уступавший еще никому? Да, Ганновер-Рекорд… Наверняка он будет записан в этом году на Приз. Ведь должно же когда-то прекратиться это фамильное невезение, которое преследует их в Призе. Он, Кронго, не мальчик. Если бы он шел рядом со всеми этими лошадьми, с Ганновером и австралийцем, он смог бы разложить на составные части бег каждой из них. Он не торопился бы и не выжимал из Альпака все. Хотя знает его беспредельную силу, безграничную, если пустить эту силу на полный ход… Он бы спокойно прошел первый поворот. На той прямой он даже отпустил бы вперед Ганновера, но не больше, чем на полкорпуса… Ни в коем случае не больше. Остальных можно не брать в расчет, он это знает. Даже австралийца. Да — вот он представляет себе весь заезд. Сейчас он делает только негромкий щелчок языком, и тугой ветер сразу сбивает тело назад. Но если бы перед ним был Ганновер, Кронго мог бы сказать своему мышастому любимцу несколько слов. Только не говорить их сейчас, забывшись… Какой чистый ровный ход… Это и есть секунда счастья. Он бы сказал первое слово. Оно звучало бы примерно… «Альпак», И потом, при выходе на последнюю прямую, повторил бы: «Альпак, мальчик…» И уходящий назад вспененный профиль Ганновера, только уходящий назад… И уходящие назад трибуны, и дробный цокот преследователей сзади, вплоть до финишного створа… Это и называется — Приз. Его Приз…
Да, наверное, это, и только это, есть счастье. Кронго, словно очнувшись, увидел звезды и подумал о таракане, все еще мелко семенящем лапками по его коже. Он поднял руку, стряхнул таракана на ладонь. Насекомое застыло, осторожно поводя усиками. Двинулось вперед, снова застыло, повернулось в одну сторону, в другую. А как бы вел себя он, Кронго, оказавшись на чьей-то ладони? Так же, как этот таракан? Но разве не нелепо, что он, взрослый человек, рассматривает сейчас это насекомое? Кронго забросил таракана в кусты и снова растянулся в шезлонге. А звезды? Ведь так же он может спросить себя — не нелепо ли, что он рассматривает эти бесчисленные светящиеся точки. Этот хворост, ровно горящий наверху. Но он не может взять одну из этих точек, как таракана, и раздавить.
Думая об этом, Кронго увидел Бланша. Кронго понял, что спит, но тем не менее спросил:
— На каком вольте вы делали проскачки?
Бланш улыбнулся в ответ, и Кронго увидел, что находится на ярко освещенной большой площади в незнакомом городе, а Бланша уже нет, играет музыка, и он ясно чувствует, что происходит какое-то торжество, потому что в центре этого торжества — он, Кронго. Он сидит на белой лошади, а другую, темно-вишневого цвета, ведет за собой в поводу. Потом площадь превратилась в длинный узкий тоннель, а лошади — в двух деревянных лошадок, крохотных, не больше его ладони. Он попытался поставить этих лошадок на пол тоннеля, но пол был наклонным, и лошадки падали, соскальзывая в одну сторону. Кронго ставил их снова и снова, но они все падали, пока наконец одна из лошадок не дернула копытом, твердо поставив ногу. Это копыто словно прилипло к наклонному полу, за ним потянулось второе, третье, четвертое… Лошадка пошла, и Кронго стало легче.
— Нельзя, нельзя.
Это брат Айзек, Кронго узнал его румянец, его черный сюртук, воспаленные глаза.
— Но почему нельзя?
Но брата Айзека уже нет, и Кронго оказывается в новом сне и испытывает странное щемящее чувство в этом странном месте, которое все называют «распределителем». Это — покорность и сознание, что все это есть и наяву, и он даже почти наверняка знает, что это есть наяву, он с этим уже как-то знаком, потому что доставал, именно доставал продукты для Филаб, а может быть, доставала, Фелиция, — и в то же время Кронго понимает, что это во сне. Слово «давать» часто и негромко повторяли те, кто стоял рядом с ним. Присмотревшись, Кронго увидел, что это большая темноватая комната, тесно заставленная рухлядью, картонными ящиками, старой мебелью, но среди этой рухляди каким-то образом стоит большая очередь. Седая пожилая дама… Мулатка с сумкой… Ну да, конечно, он их знает. И мулатку, и даму. Старичок европеец с палкой. Кронго с каким-то облегчением узнал в человеке, стоящем между мулаткой и стариком, своего отца. Но ведь отец умер, спокойно подумал он, и тут же со странной легкостью ответил сам себе — ну и что же, что умер? Кронго увидел, что, несмотря на то что комната глухая и темная, одна стена у нее стеклянная. На этой стене, выходящей на оживленную улицу, висит небольшая табличка, на которой написано: «Почта». Так вот почему никто сюда не заходит, подумал Кронго. Все думают, что это почта, а не распределитель. У входа в комнату, как раз у вывески, стоит высокий негр с гвоздикой в петлице. Он улыбается и что-то беззвучно объясняет прохожим. Кронго по движению его губ понимал, что он объясняет, — что входить нельзя, но самих прохожих Кронго не мог разглядеть. Мулатка оглянулась, косясь на Кронго. Он явственно услышал слова, которые она шептала кому-то: