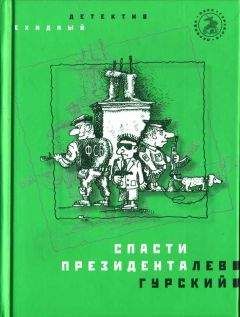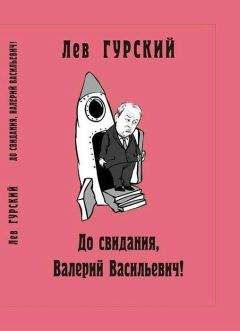— Жди тут, — пресек я инициативу охранника. — Твоя задача — караулить машину.
Беглую шимпанзе не обязательно сразу гнать велосипедной цепью и устрашать пальбой из газового пугача. Я все-таки мастер слова, а не рабовладелец с дикого Юга. Или не уговорю ее так?
В подъезде текстильной общаги было сыро, полутемно и совсем безлюдно. Летом, во время каникул, даже простые бабки-вохровки тут не водились: проходи свободно, куда хочешь, и режь, кого душа пожелает. На дверях единственного лифта я углядел бумажку с корявым «Не работает». Дрянь говорила, что в ту ночь, когда зарезали репортершу из «Листка», лифт тоже не работал и девка поднималась пешком. На лестнице ее и встретил хмырь с ножичком. Примерно вот здесь, между вторым и третьим.
Взбираясь вверх по ступенькам, я нарочно задержался на площадке. Провел пальцем по сырой стене и вообразил, как острие финки тихо впивается мне в бок, левее и выше задницы... Брр! Могу понять, почему Сашка при первой оказии плюнула на институт и сдернула отсюда к унылому очковому ботану. Текстильная ее карьера с самого начала не задалась. Не тот темперамент.
Перед дверью с номером «132» я остановился, перевел дыхание. Сучка могла быть только здесь, уже без вариантов. Дядя Моржович и патриот Дениска, дружно трубя в охотничьи рога, сами загнали для меня дичь в клетку ненавистной общаги. Податься твари больше некуда. Сейчас блудная гадина покорно склонит выю у ног своего прекрасного (я извлек из кармана зеркальце и поправил кепарик) принца. Плод созрел, пора подставлять мешок.
Вытянув руку, я легонько застучал в приоткрытую дверь. Другой бы на моем месте вломился и без стука, но кандидату в президенты подобает изящный политес. Моветон ему западло.
— Кто? — спросил недовольный голос.
Сашка. Естественно, одна. В это время года се товарки скопом уезжают на малые родины: домой к коровам и заливным лугам, прочь из вавилона разврата и высоких столичных цен.
— Принц в пальто, — тонко пошутил я.
За дверью ржаво лязгнула панцирная сетка, по полу стремительно зашлепали босые ноги. Я изготовился поймать блудную дрянь, навалять ей пару звездюлей, а потом простить. Фердинанд Изюмов охрененно толерантен. Даже знаменитые прозаики и известные политики бывают терпимы к безмозглым сучкам. Тем более когда эти прозаики и политики не трахались по полтора дня...
С деревянным ударом дверь захлопнулась. Я услыхал, как скрипучая ножка стула быстро пролезла в дверную ручку. Вот пакость! Ножка в ручку — старый школьный фокус. Так мы сами запирали класс изнутри, когда будущему писателю Изюмчику было лет десять, а сучкины папаня-маманя еще и близко не сношались.
— Александра, ну-ка открой! — сурово произнес я. — Кончай придуриваться, я ведь серьезно. Слышишь?
— Иди в жопу, Фердик! — отозвалась дрянь с той стороны. — Можешь проваливать, все равно не пущу! Дрочи всухую, я тебя разлюбила!
Я надавил плечом, однако стул был крепок. Запасы моей толерантности иссякли.
— Доиграешься, чертово отродье, — злобно сказал я. — Выбью сейчас дверь и та-а-ак тебя отделаю!
— Сперва выбей, — хихикнула сучка. — Пупок развяжется.
Раза два я пнул ногою створку, испытывая ее на прочность, затем отбежал подальше для разбега...
И, как баран, попался на другой школьный трюк!
Когда я отскакивал, чтобы прыгнуть, паскудница втихую убрала стул. Не встречая препятствий, я вломился в открытую дверь, ласточкой пролетел по всей комнате и шлепнулся на койку у противоположной стены, на лету раскидав шеренгу пустых кроватей. Взметнулась ржавая пыль, панцирная сетка противно залязгала. Перед моими глазами мелькнуло убегающее красное пятно в дверном проеме.
— Догоню — убью! — Я вскочил, бешено рванулся следом и несколько шагов проволок за собой железную кровать, которая вцепилась сеткою мне в левую брючину.
Пока я освобождал ногу, дрянь успела выскочить из коридора и с громким визгом ссыпалась вниз по лестнице.
— Стой по-хорошему! — проорал я в гулкий пролет, перепрыгивая сразу через три ступени.
Тяга к ярким цветам подкузьмила сучку. Упустить из виду огненно красный сарафан не смог бы даже дальтоник. Выбежав из подъезда, я заприметил вдали красный лоскут и бросился за ним. Коррида, свирепо подумал я на ходу. Час быка. Забодаю паршивку голыми руками.
Как назло, подворотня вместе с машиной и Дусей остались в другой стороне. Но и без машины я сумел развить очень неплохую скорость. Злость покинутого мужчины несла меня вперед, как на крыльях. Гордость обманутого кандидата в президенты придавала мне свежих сил. Новенькие брюки, подло израненные железом сетки, стучали в мое сердце.
Примерно через квартал яркое пятно сарафана исчезло за углом. Минуту спустя я резко свернул в том же направлении...
Ох и ни хрена себе пейзажик!
Я невольно сбавил скорость, на миг забыв про корриду и про погоню. Обычная московская толпишка меня вряд ли бы остановила: я умею ходить по головам, отдавливая носы и уши. Но эта толпа была сюром чистейшей воды, бредом пожирателя мухоморов, картинкой полоумного Дали.
Штук сто празднично прикинутых хохлов — усы, чубы, шаровары — торжественно открывали мемориальную доску Джона Леннона!
Дрогнув, я попятился от бреда. Хохлы и битлы, екнуло в мозгах. Бузина и дядька. Кобзарь forever.
Атас, испуганно сказал себе я, это уже не прикол. Это уже полная пурга! Такие штучки бывают от ЛСД, но я-то с кислотою давно завязал, клянусь мамой! Неужто спонтанный рецидив? Чтобы победить глюк, я больно ущипнул себя за задницу.
Чубы, доска и кобзарь Джонни не растаяли в воздухе. Я ущипнул себя вторично. Глюк снова не пропал.
Только когда в устье толпы мигнуло, удаляясь, знакомое красное пятно, я опомнился и с криком: «Сашка! Сашка! Стой, паскуда!» — начал локтями продираться сквозь заросли чокнутых тарасов бульб на ясный огонь сучкиного сарафана.
Но темп уже был потерян. Переулок, куда скрылась дрянь, впадал в другой переулок, а тот раздваивался на хилые рукава — правый и левый. Я прыгнул влево, проскакал вдоль исписанного забора и уткнулся в глухую кирпичную стену. Тупик! У самой стены на узком ящике скрючилась старуха, карауля газетку с расставленными на ней банками.
— Тварь лысую... — выдохнул я, — не видели?..
— Творожку? — шамкнула в ответ абсолютно глухая ведьма. — Бери, внучек, все свеженькое, от своей коровки...
Покрыв старуху бесполезным матом, я развернулся на сто восемьдесят и помчался вон из кирпичного аппендикса, прямо ко второму из рукавов. Сучки, естественно, уже след простыл. С упрямством ишака я обежал все окрестные дворы, нарвался еще на нескольких ведьм-спекулянток и даже сгоряча купил у одной мятый соленый помидор, в надежде раскрутить ее на информацию. Однако промазал: старая до того была рада первому покупателю, что теперь умильно соглашалась с каждым моим словом. Лысую девку? Видела, как не видеть? И лысую, и волосатую, и в сарафане, и в портках. Всяких она видела, за восемьдесят-то лет!.. Если бы я пожелал узнать, не пробегало ли мимо стадо мамонтов, бабка с радостью подтвердила бы и мамонтов.
Это был классический облом, фиаско из фиасок. Пуганую дрянь до вечера искать бесполезно, все подъезды в Москве не обойдешь. Гениальная операция «Захват Сашки», забойно начатая, в финале накрылась медным тазом. После такой неудачной облавы мне смело можно поступать в ментуру — там за глупость сразу дают не меньше майора плюс денежную надбавку за идиотизм.
По правде говоря, скорбно признал я, вся моя затея попахивала ментовской дурью от начала до конца. Не стоило видному политику и кандидату в президенты носиться за упрямой тварью. Тоже мне занятие накануне выборов! Только харизму себе уронишь. Фердинанд Изюмов горд, велик и неприступен, словно гора Юнгфрау. Загонять обезьян должен тот, кто масштабом помельче и извилиной попрямее.
Ничего-ничего, утешил себя я, жуя прохладный помидор. Гостиницу «Националь» обороняет от дряни купленый дядька, апаринскую хату сторожит ревнивая Антонина. Тварь побегает-покрутится — да и опять придет в общагу, к дырявой железной сетке. Надолго гонору у нее не хватит. На продавленной койке в сырой конуре любые капризы проходят быстро. Каждая ночь в этом клоповнике хуже десятка не полученных от меня оплеух. Через сутки-другие поглядим, кто кого разлюбил и кому куда дрочить. Она еще в ногах будет валяться, шнурки зубами развязывать.
А я буду холоден и молчалив. Как этот бывший помидор.
На выходе из переулка я не застал уже толпы самостийных глюков, но мемориальная доска висела по-прежнему. Портрет из мрамора удался на славу, особенно тонкие круглые очки. Даты жизни певца, конечно, переврали. Да и фамилию выбили по-своему, на хохляцкий манер: «Лазарчук» вместо «Леннона». Вот хитрожопый народ, вдруг сообразил я. Взяли и присебякали чужую покойную знаменитость! Нагло стырили битла у англичан. Эдак я помру — и меня посмертно в хохлы перепишут. Сделают каким-нибудь Доценко, Бабенко или Савенко...