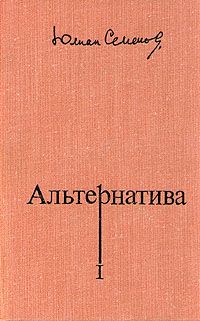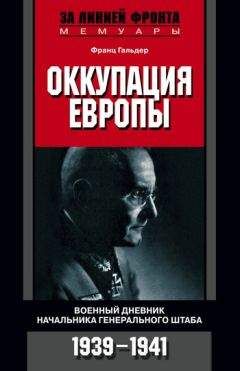— У вас есть еще какие-нибудь вопросы?
— Я хочу поблагодарить вас за любезное согласие принять ме…
— Спокойной ночи, — и Степинац первым поднялся с жесткого кресла, — желаю вам доброго пути и всяческих благ.
Вернувшись в генеральное консульство, Веезенмайер, не ответив на недоуменный взгляд Фрейндта, быстро, чуть не бегом, поднялся к шифровальщикам и продиктовал телеграмму в Берлин.
«Рейхсканцелярия.
Экономическому советнику фюрера
Вильгельму Кепнеру.
Строго секретно.
Вручить лично.
Обергруппенфюрер!
Я рад сообщить Вам, что мои переговоры с архиепископом Хорватии Алойзом Степинацем закончились нашей полной победой. Степинац, будучи информирован папским двором о переписке, которая имела место между фюрером и дуче, зная, видимо, что фюрер признал Хорватию сферой итальянских интересов, согласился в своей повседневной деятельности ориентироваться на нас, став, таким образом, второй силой Хорватии, а по влиянию традиционного католицизма первой силой нации, неподвластной Муссолини. Я бы просил Вас доложить об этой победе германской стратегии великому фюреру германской нации, поскольку уже после завершения переговоров со Степинацем, который дал согласие лично встретить немецкие войска в Загребе, подчеркнув, таким образом, роль истинных победителей в предстоящей кампании, я получил телеграмму от рейхсминистра, в которой содержится требование прервать все мои контакты в Хорватии, учитывая договоренность между фюрером и дуче. Я думаю, однако, что Вы найдете в лице рейхслейтера Розенберга и обергруппенфюрера Гейдриха союзников, которые также будут проинформированы мною о проделанной работе. Я бы мечтал о том, чтобы фюрер поддержал мою деятельность и защитил меня перед рейхсминистром, который — опасаюсь — может быть раздосадован фактом этих несанкционированных им переговоров. Зная Вашу постоянную ко мне доброту, ощущая Вашу постоянную, невидимую, но могучую поддержку, я бы просил почтительного разрешения и впредь верить, что вся моя работа, отданная идеям великого фюрера, будет находить Ваше понимание и поддержку.
Хайль Гитлер!
Искренне Ваш
доктор Э. Веезенмайер».
Отправив две короткие шифровки Гейдриху и Розенбергу, Веезенмайер уехал наконец в Фиуме исполнять предписание МИДа, понимая, что главную партию он выиграл неожиданно быстро и что все его прежние кажущиеся победы и поражения на самом-то деле были лишь подступами к главному триумфу.
«Чем глубже прыжок в зеленую жуть морской пучины, — думал Веезенмайер, удобнее устраиваясь в углу большого «майбаха», — тем сладостнее миг, когда ты поднялся к небу, и вдохнул полной грудью воздух, и увидел солнце в синих и вечных небесах. Сейчас я увидел солнце. Сейчас можно закрыть глаза и вздремнуть, и пусть мне во сне приснится матушка, добрая моя и нежная мамми».
18. МАЛОДУШИЕ ЛЕЖАТЬ, КОГДА МОЖЕШЬ ПОДНЯТЬСЯ
Наутро Везич пообещал Ладе купить билеты на самолет в Швейцарию. Он дал ей слово, что не предпримет ни одного шага, который бы грозил не ему уже теперь, а им двоим. Однако он не мог до конца честно выполнить своего обещания и послать к черту этот бедлам, который именовался королевской Югославией, забыть ужас, который пришлось ему пережить в эти дни (а что может быть страшнее ужаса бессилия для натуры деятельной, способной четко и быстро мыслить). Желание уехать с Ладой существовало в нем неразделимо с желанием сделать то, что он мог и обязан был сделать перед лицом своей совести.
Он понимал, что, не сделай он того, что предписывал ему долг, счастью их будет постоянно грозить душевное терзание: «Ты мог, и ты не стал, и этим своим «не стал» обрек на мучительную гибель десятки, а то и сотни людей». Любовь, возросшая на смерти; счастье, построенное на предательстве; искренность, рожденная на измене, невозможны, как невозможно солнце в ночи.
Бросив машину на Власке, под Каптолом, Везич прошел через шумный, безмятежный, веселый, песенный Долаз, где женщины в бело-красном и мужчины в красно-черном крикливо продавали поделки из дерева, гусли, шерстяные расшитые наплечные чабанские сумки, старые ботинки, запонки, брюки, ручной работы сербские опанки — кожаные туфельки с резко загнутыми носами, серебряные кольца, позолоченные браслеты, привезенные из Далмации, толстые вязаные носки из Любляны; салат, макароны, фасоль, живую рыбу на льду; и оказался в темной маленькой улочке. Тишина этой некогда оживленной торговой улицы испугала его: в витринах было пусто, двери магазинов открыты, на полу шелестели бумаги, видимо, дома были брошены владельцами сегодняшней ночью.
Здесь, в центре старого Загреба, среди ссудных контор, дорогих ателье и ювелирных магазинов чудом затесалась парикмахерская Янко Вайсфельда. Везич любил приходить к нему стричься. Он слушал болтовню старика, исподволь советуясь с ним, не впрямую, естественно, а лишь задавая вопросы, ответы на которые помогали ему по-своему думать о замысленных им делах.
Он и сейчас хотел посидеть у Вайсфельда и попросить старика причесать его как можно тщательнее, сделать массаж, чтобы выглядел он ухоженным, и пока старик, хищно поигрывая золингенской бритвой, будет скоблить его щеки, он соберется, расслабившись поначалу, а потом появится среди своих коллег таким, каким его обычно привыкли видеть. Он не мог теперь не появиться в управлении, поскольку Родыгин сказал ему о Кершовани и Цесарце, которых арестовали. В былые времена он гордился этими своими противниками, учился у них методу мышления, и сейчас — он твердо был убежден в этом — место им в газетах, на митингах, в университете, но никак не в темнице.
«В газетах, — усмехнулся он, вспомнив «Утрени лист», «Хорватский дневник» и «Обзор». — Газеты печатают слащавые романы с продолжением о «чистой любви», сообщают о выставке новых мод из Виши, передают сплетни о том, что сейчас носят американские миллионеры, и ни слова о том, что нас ждет, ни слова…»
Шагая по пустой, тихой, узкой — раскинь руки, упрешься в стены противостоящих друг другу домов — улочке, Везич думал, что зря он пришел сюда, что Янка Вайсфельда тоже, наверное, уже нет, как и всех почти его соплеменников, но он ошибся: старик стоял на пороге парикмахерской и сосредоточенно курил сигарету, внимательно наблюдая за тем, как огонь медленно, сжимающимся черно-красным ободком пожирал бумагу и табак, превращая их в серый пепел.
— Шолом! — сказал Везич.
— Хайль Гитлер, — отозвался тот.
— Побреемся?
— Первый клиент за два дня. Извольте садиться, господин полковник.
Везич сел в кресло; Янко, взмахнув голубоватой простыней над его головой, ловко укрыл ею полковника, заметив:
— Все парикмахеры пользуются белыми простынками, а мне белый цвет напоминает саван, и поэтому я прошу Фиру подсинять простыни.
— Что у вас тут случилось?
— Исход, — пожал плечами Вайсфельд. — Разве не ясно?
— А в чем дело?
— Не надо мне делать глазами, полковник. Не надо. Я старый еврей с головой на плечах. Уж кому как не вам должно быть известно, что шестого апреля сюда прыгнут парашютисты Адольфа.
— Это точные сведения? — улыбнулся Везич.
— Это точные сведения. Иначе бы евреев никто не заставил давиться в сплитском порту, чтобы бежать в Испанию или Америку.
— А почему вы не в сплитском порту?
Вайсфельд быстро намылил мягким указательным пальцем левой руки щеки Везича и ответил:
— Потому что уехали те, которым было на что уезжать. А на что уезжать мне? Из обстриженных волос денег не сделаешь, даже если их продавать на щетину в магазин щеток Младена Рухимовича.
— Кто сказал, что шестого будет десант?
— Верные люди. Просто так банкиры не убегают.
— Ну и что будет?
— Это вы меня спрашиваете? — мелко засмеялся Янко. — Это он меня спрашивает, что будет! Люди рождаются людьми, просто людьми, полковник, и только папы и мамы делают их католиками, иудеями или православными! В наследство от родителей люди получают горе или радость. Только не думайте, что Адольф даст радость хорватским католикам за то, что они католики, а ему временами приходится целовать папу в зад, чтобы тот не проклял его на площади святого Петра! Адольф — главный покровитель невежества, и если папа скажет об этом вслух, всем станет ясно, что он самый жестокий враг людей, потому что тот, кто создал варваров и невежд, кто опекает их и говорит им, что они всегда и во всем правы, тот хуже Ирода и хуже Иуды. Вы думаете, что невежды Гитлера будут гладить по головке хорватских католиков? Так нет. Хоть вы и католики, но говорите не по-немецки и песни ваши очень похожи на русские. Моя бабушка из Гомеля, так она мне пела русские песни. Они такие же грустные, как ваши. Массаж будем делать?