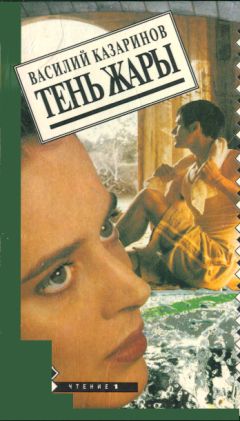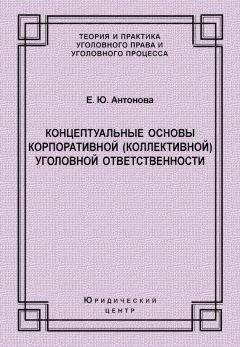Я вспомнил, как Эдик за мной ухаживал, прикурил сигарету и вставил ему в губы.
– Слушай… За информацию спасибо. Но ты что же, разошелся теперь с Катерпиллером?
– Да нет, хотя вообще-то он скотина… Ты, я слышал, ему другом детства приходишься… Если ты по старой дружбе на него хорошенько наедешь, я в обиде не буду.
– Ну уж нет, я в этой истории выступаю исключительно как консультант — меня в этом качестве и пригласили; если вам так приспичило разбираться, так и разбирайтесь между собой, а я туг ни при чем.
– Ага! — сплюнул сигарету Эдик. — Разберешься с ним! Потом мало не покажется…
Возможно, возможно, но, тем не менее, некто, судя по всему, как раз и желает разобраться: если не с Катерпиллером лично, то, во всяком случае, с его лавочкой.
Я вернул ему пистолет, он сунул пистолет под мышку:
– Знаешь, я в самом деле к тебе ничего не имею.
– Да и я, Эдик, тоже.
За кого же он меня принимал? Хотел бы я знать…
Мы уже выворачивали на Чистые Пруды. Я ошибся, посоветовав Бэлле свернуть с кольца на Большой Харитоньевский, — театр оставался у нас за спиной. Пришлось немного сдать назад. Бэлла понеслась задом на бешеной скорости — к счастью, машин в такой час немного. Какая-то белая "Волга" — частная, частники на "Волгах" сразу узнаваемы, даже в потемках, у них особая манера водить: мягкая, плавная — шарахнулась от нас влево и едва не поцеловалась с оградой сквера.
Мы успели вовремя: публика только начинала расходиться. Эти люди еще пребывали во власти тепла, уюта, плавного сценического света — они зябко поеживались; не спеша сходили по ступеням бывшего "Колизея" или поджидали спутников у белых колонн.
– Давно не посещал очаг культуры? — поинтересовалась Бэлла.
– Сто лет…
В самом деле, в театре я не был лет сто и основательно забыл, как выгладит фойе, как шуршит занавес и как прожектор вдруг прорисовывает в темном пространстве сцены меловые, синтетические лица актеров — впрочем, думал я не об этом.
Впервые за много лет я оказался на Чистых Прудах вечером и видел это яркое праздничное пятно в темном жерле бульвара: раскаленно-белое, с медными прожилками… Это был и не "Современник", и не "Колизей" — тут полыхало нечто третье.
– Мы только за этим сюда приперлись? — тоскливо поинтересовалась Бэлла.
Я положил ладонь на ее руку и попросил оказать мне маленькую услугу. Мы дождемся, пока рассосется публика, а потом я перекинусь парой слов с одним завзятым театралом. Он скоро выйдет, но будет не один. Мы отойдем в сторонку — вон туда, за левый угол здания, где афишные витрины. В задачу Бэллы входит как-нибудь занять спутницу театрала. Как-нибудь, все равно как — лишь бы она не скучала и, тем паче, не подняла крик.
– А в Москве стало веселей! — приободрилась Бэлла. — Мне у вас больше нравится, чем прежде.
– Мне тоже… Вот только… — я поглядывал на медленный театральный разъезд, вернее сказать, расход, прикидывал: минут пять-десять у нас еще есть…
– Что только? — Бэлла уселась вполоборота ко мне, в лице ее обозначилось легкое ехидство, — что, тяжело дается демократия?
– Твою мать! — я приоткрыл окошко и сплюнул.
– М-м-м-м? — переспросила Бэлла.
– Когда я слышу это слово, мне хочется схватиться за пистолет!
– Вот это разговор! — засмеялась Бэлла. — И что дальше?
– Да ну тебя!.. Я просто о том, что время от времени теряю ощущение реальности, понимаешь? Ну, перестаю чувствовать, где заканчивается реальная жизнь и где начинается "Большой налет" Хэммета, понимаешь? Грань между этим крутым романом и нашей, так называемой, эпохой кардинальных реформ — на чисто бытовом уровне, на уровне улицы — как-то растворилась. Такова примета теперешнего жанра.
– Жанра? — нахмурилась Бэлла. — Жанра?
– Вот именно, именно… Хочешь знать, чем я отличаюсь от тебя? Ну, в принципе? На уровне генотипа?
– Ну-ну… Это занятно…
– Тем, что я никогда не жил толком — здесь!
Бэлла сосредоточенно разминала переносицу, соображая.
– Когда мы учились в университете, я жил в "Доме на набережной" и был там прописан, там, а не у себя, в Агаповом тупике. Или вот родители… Им только казалось, что они живые люди. На самом деле у них вместо крови были гайдаровские чернила. Мой дедушка — тот вообще сделан из осинового полена — его старательно выстругал Алексей Максимович… А пращуры мои — думаешь, они дышали живым воздухом?
– А чем они дышали? — спросила Бэлла.
Лесной прелью… Знаешь, ее в "Записках охотника" сколько? Много, на всех хватало. Да и вообще, по слухам, мы все вышли из шинели. В том-то и причуда, что мы в самом деле толком никогда не жили здесь… То в "Вешних водах" жили, то в "Петербурге" квартировали. Скрипки наши — они что, думаешь, наши?
Бэлла пожала плечами.
– Черта с два наши! Это все Скрипки Ротшильда. А шаркающей кавалерийской походкой у нас — кто не ходил? Звездный билет в заднем кармане кто не таскал с собой повсюду!.. Это и есть наша питательная среда, понимаешь? Мы устраиваем жизнь по законам литературного жанра… Именно поэтому все теперь так зашевелились.
– Понимаю, — кивнула Бэлла. — Теперь у вас, значит, — Хэммет?
– Ну, примерно… Попробуй не зашевелись, если тебя вписали в качестве персонажа в "Большой налет". С этим, кстати, связана моя нынешняя работа.
– Стало быть, ты работаешь по специальности?
– Вот именно… Вон они… Пошли!
Я всегда знал, что Бэлла молодец, но не думал, что молодец настолько. Она блестяще отыграла свою импровизацию. Она резво побежала навстречу парочке, вполне достоверно исполнила сцену поскальзывания, рухнула на землю и непритворно завыла; пока актрисулька охала и ахала, я взял Катерпиллера под локоток, отвел за угол, прислонил к стене. Он сидел у меня в стене аккуратно — как печать в загранпаспорте.
Я коротко высказал свои претензии; я дал ему понять, что не нуждаюсь в проверках на лояльность; если наши отношения будут развиваться в подобном духе, я ведь могу не только морду набить…
Я ослабил хватку, Катерпиллер отслоился от стены.
– Насколько я понимаю, — сказал я, — наш контракт расторгнут? Можно явиться за расчетом?
Он поправил галстук, отряхнул полы плаща, подобрал шляпу.
– Напротив… Пошли, дамы волнуются.
Они вовсе не волновались и, кажется, не обратили внимания на нашу отлучку — болтали, курили. Я потянул Бэллу за рукав: на сегодня все, поехали, нас ждет мировая революция.
Мы двинулись к нашей машине, Катерпиллер — к своей. Он усадил актрисульку, привинтил зеркальце, вернулся к нам, постучал согнутым пальцем в стекло. Я приоткрыл дверь.
– Завтра к десяти я жду тебя в офисе. Будь обязательно!
– Что за официальность?
– Борис Минеевич нашелся…
– Значит, жив-здоров? А ты волновался…
– Жив-то жив… Но не вполне здоров.
– Что с ним? Похмелье? Ишиас? Понос? Пневмония?
– Полагаю, он сошел с ума…
Вот это уже забавно. Я конструировал этот сюжет и так и сяк, насиловал воображение и прорисовывал Бориса Минеевича во всех мыслимых и немыслимых обстоятельствах, свойственных современному жанру; я его рэкетировал, пытал электрическим током, я отсылал его к старушке матери в Вятку, прятал у любовницы, я поселял его в сочинской "Жемчужине" и даже клал, грешным делом, букет алых гвоздик на его могилу, но предположить, что коллизия вытащит нас к дурдому, я не смог.
Пришлось вылезти из машины и порасспросить Катерпиллера.
Через пару минут мы уже мчались к Петровке, а там дальше на Садовое и потом мимо Парка культуры на Комсомольский: у меня возникло острое желание глотнуть чего-нибудь крепкого.
– И где нашелся этот парень? — нарушила, наконец, Бэлла молчание: оказывается, она внимательно следила за нашей беседой.
То-то и оно — где.
Его нашли в железном контейнере для перевозки мебели.
…и Мы войдем в Их дома, и встанем у Них за спиной. Мы хорошо знаем силу наших рук, выносливость наших жилистых тел, деревянную жесткость ладоней, сокрушительность наших кулаков и мертвую хватку наших челюстей, но Мы не прибегнем к насилию, не кинемся на Них — Мы пришли не за тем.
А вообще-то мне в самом деле нравится новая работа. Получил я ее при несколько странных обстоятельствах. Мне позвонили домой. Протокольный женский голос вопросил: вы такой-то? В том случае, если я действительно такой-то, а не какой-то еще, женскому голосу поручено передать мне предложение от фирмы такой-то.
Названия я не разобрал *[10].
– Эй! Постойте! — крикнул я в трубку, но голос уже отгородился от меня частыми гудками.
И все, что осталось от нашего разговора — это запись на полях старой газеты: адрес, время визита.