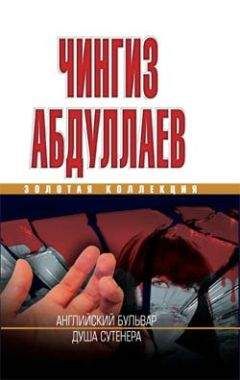— Вы же знаете, что это невозможно, — вздыхает Маскульский, — с ней может говорить только ее адвокат.
— Или ее представитель. — За эти годы я выучил Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы лучше всякого адвоката. — Я буду ее представителем.
— Тогда приезжайте утром, и мы все оформим, — соглашается Маскульский. Бедняга, он и не подозревает о коррупции, которая царит в их управлении.
— Хорошо, — говорю я, — нельзя так нельзя. А кто именно с ней был, вы не знаете?
— Нет, не знаю. Но очень хочу узнать, — вздыхает Маскульский.
— Завтра и узнаете.
Мы вышли от майора и сразу прошли к заместителю начальника управления. Полковник оказался гораздо сговорчивее. Может, потому, что ему уже позвонили. Или потому, что я положил на стол конверт с тысячью долларов. Через полчаса я был в камере у Карины. Причем в одиночной камере, куда ее доставили для свидания со мной. Хорошо еще, что туда не пустили Сему Никитина, иначе бы он изуродовал ее прямо в камере.
Нужно было видеть, как она испугалась, когда увидела меня. Сначала она долго плакала, потом клялась, что сорвалась первый раз в жизни. Потом говорила, как меня уважает. Я терпеливо ждал. В подобных случаях не нужно торопиться. Проговорив минут пять, Карина замолкла. Больше сказать ей было нечего. Да и словарный запас этой идиотки не тянул больше чем на пять минут. Она знала, зачем я пришел, и я знал, что она это знает. Поэтому терпеливо ждал, когда, наконец, она сообщит мне имена своих сообщников. Внушение ей я не делал: не место и не время. Я не нянька в детском саду, чтобы заниматься воспитанием. Если женщина не понимает некоторые вещи с первого раза, она не поймет и со второго.
— Кто с тобой был? — строго спросил я.
Карина заплакала. Она уже поняла, что допустила ошибку. Но она еще надеялась, что все можно изменить. Дурочка. Это прокурора можно разжалобить или следователя. Со мной такие номера не проходят. Я ждал, когда она ответит на мой вопрос. Но она намеренно тянула время. Дежурный уже начал звякать ключами.
— Кто с тобой был? — повторил я.
Эта ситуация начала меня злить. Карина испуганно взглянула на меня и попыталась выдавить какое-то имя.
— Быстрее, — посоветовал я ей. — Имена.
— Сум… Сум… Сумбатовы, — пролепетала она.
Я так и думал. Когда я забирал ее с улицы, меня предупреждали, что она была связана с их бандой. Они, видимо, нашли ее и решили снова использовать в качестве подсадной утки. Значит, эти братишки не успокоились. А ведь я просил их не трогать моих девочек, специально человека посылал. Значит, они тоже не поняли. Значит, решили, что можно вести себя подобным образом.
Я повернулся, чтобы уйти. Карина вцепилась в меня.
— Я не виновата, честное слово, не виновата. Я больше не буду, никогда не буду! Петр Аристархович, я вам обещаю…
Она действительно ничего не поняла. И напрасно плачет. Она еще не поняла, что будет рыдать, когда выйдет отсюда. И в ее интересах лучше не выходить отсюда никогда. Я схватил ее двумя руками за лицо и оттолкнул от себя.
— Поговорим, — пообещал я этой дуре.
Она продолжала плакать. Но она будет плакать еще горше, когда вернется домой. Начнем с того, что ей «светит» несколько лет тюрьмы, а я и пальцем не пошевелю, чтобы ее оттуда вытащить. После тюрьмы это будет «испорченный экземпляр», этакое яблочко с гнильцой. Она, конечно, попытается вернуться ко мне. Но поздно. И она снова окажется там же, где была раньше — на улице. Причем не на Тверской, а где-нибудь на трассе для дальнобойщиков, где работают за сотню «деревянных». Ей не хотелось работать со мной, клофелинщики ей дороже. Не оглядываясь, я вышел из камеры.
Еще через полчаса я был на Кутузовском. После посещения камеры так неприятно пахнешь, что ни одна сауна этот запах не смоет. Ненавижу изоляторы и колонии. Нормальный человек не должен туда попадать. Его или убивают, или вообще не трогают. Смею думать, что я нормальный человек.
Никитин сразу уехал выполнять мое распоряжение. Еще до утра братья Сумбатовы горько раскаются в том, что связались с Кариной и вообще решили использовать мою девочку. Вы думаете, Никитин поехал нанимать киллеров? Конечно, нет. Он поехал к уважаемым людям. Ведь не секрет, что весь город разделен на зоны влияния и в каждой зоне свой «папа». Да и вообще вся страна разделена на такие зоны. Мне кажется, что и мир поделен подобным образом. Просто у разных «пап» разные аппетиты и разные запросы. И не обязательно это уголовники, о которых вы подумали. Это бывают очень уважаемые люди. Им тоже неприятно, что какие-то беспредельщики действуют у них в «зоне».
Я думаю, вы догадываетесь, что к утру братьев уже не было в Москве. Их вообще нигде не было. И я не думаю, что в ближайшие сто лет их смогут где-нибудь найти. Может быть, археологи будущего наткнутся на их кости во время своих раскопок, в чем лично я сильно сомневаюсь.
А судьбой Карины теперь должен был заниматься Сема Никитин. Меня она больше не интересовала. Да, день получился тяжелый и неприятный. Сначала этот Дипломат со своими запросами, потом Славик, из-за которого мне пришлось, выдержав неприятный разговор с Валентиной, узнать об обмане Галины. И наконец, Карина. Она теперь при слове «клофелин» будет вздрагивать всю свою жизнь. Если, конечно, долго проживет. В чем лично я тоже очень сомневаюсь. На трассе долго не живут. Там быстро спиваются и либо попадают под машины, либо замерзают где-нибудь в сугробе. А жаль. Карина была хорошей девочкой, и я мог бы сделать ей карьеру. Впрочем, она сама выбрала свою судьбу.
Вообще судьба — странная вещь. Кто бы мог подумать, что я окажусь в Москве, что смогу купить здесь несколько квартир и стану сравнительно обеспеченным человеком уже к тридцати пяти годам. Вообще-то я родился в Баку. Наверно, только в этом уникальном полифоничном городе мог появиться на свет такой мальчик, как я. С такими корнями и с такой родословной. Папа у меня полурусский-полуеврей. Его мама — Сара Эпштейн — была неплохой пианисткой и в тридцатые годы встретила моего деда, Петра Александровича Лютикова, потомственного дворянина, бежавшего от революции семнадцатого года со своими родителями в Персию, затем перебравшегося в Баку под защиту англичан и осевшего здесь после апреля двадцатого, когда в республику вошла одиннадцатая Красная армия. Мой прадед, Александр Лютиков, довольно быстро умер, и это спасло его семью. Прабабушка пошла работать в какую-то контору, благо была грамотной, а два ее сына, среди которых был и мой дед, был определены в среднюю русско-татарскую школу.
Мой дедушка был, очевидно, человеком одаренным, так как уже в четырнадцать лет закончил среднюю школу и поступил в институт. После окончания вуза он пошел работать инженером в проектный институт. Оказалось, что на их улице жили несколько еврейских семей, переехавших сюда еще в начале века. Вообще еврейская тема — это всегда очень интересно и очень печально. Погромы в Молдавии и на Украине вынуждали многих иудеев переселяться подальше. В Баку и в Тбилиси им оказывали особенно радушный прием. И хотя здесь не всегда было спокойно, еврейских погромов здесь никогда не было. Может, потому, что в Баку евреи занимались не столько торговлей, сколько были учителями, врачами, адвокатами? Более того, они были самыми известными в городе адвокатами, учителями, врачами, музыкантами. И конечно, их уважали, к их мнению прислушивались.
Моя русская прабабка, мать моего дедушки, очевидно, ничего не имела против моей бабушки-еврейки, и довольно быстро, в середине тридцатых, на свет появился сначала мой отец, которого назвали старым русским именем Аристарх, а затем и его сестра, которой дали восточное имя Эльмира. Должен сказать, что дедушку я никогда не видел. Он умер за несколько лет до моего рождения, но, по рассказам бабушки Сары, человека лучше, чем он, в городе не было.
Мой отец пошел по стопам своего отца, стал даже главным инженером проектного института. Бакинцы его уважали, говорили о его порядочности и честности. В конце пятидесятых он закончил институт и получил направление в какой-то городок на границе между двумя «братскими» республиками — Арменией и Азербайджаном. Там он и познакомился с моей мамой. Сейчас, после десятилетней войны, это кажется невероятным. Война эта не была нужна ни одной из республик, в последнее столетие на Кавказе, особенно в Азербайджане, было много смешанных семей. В том числе и армяно-азербайджанских. Азербайджанцы женились на армянках, армяне брали в жены азербайджанок.
В такой интернациональной семье и родилась моя мама. Ее отец был азербайджанцем, успевшим в двадцатые годы получить образование в Германии, а мать — красавица-армянка, в которую были влюблены все мужчины от пятнадцати и старше. В результате упорной борьбы дедушка отбил у соперников мою бабушку, они сыграли свадьбу в тридцать пятом, и тогда родилась моя мать. Дедушку расстреляли через два года. Вспомнили, что он учился в Германии, жил в Европе и, конечно, шлепнули. По рассказам моей другой бабушки, Клары, это был святой человек. Я в святых не очень верю, но, очевидно, он был действительно хорошим человеком. Видел я его фотографии, спрятанные от изуверов из НКВД. Прилично одет, умные глаза, печальный взгляд. Даже в день свадьбы. Может, он предчувствовал свою судьбу? Так и получилось, что мама оказалась в семье единственным ребенком. А бабушка, поседевшая в двадцать шесть лет, всю жизнь сохраняла трогательную верность убиенному супругу. Есть ли в наше время такие люди? Или, может, просто я таких не встречал? Бабушку я всегда помню печальной и тихой. И красивой. Я родился, когда ей было под пятьдесят, и даже тогда наш сосед дядя Арам пытался к ней свататься.