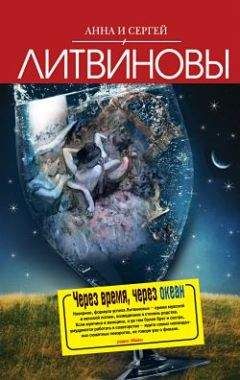– А что случилось? – пробормотала Надя.
– Лидии Михайловне очень плохо.
«Да я-то здесь при чем?!» – едва не выкрикнула Митрофанова.
А Егор Егорович продолжал:
– Сегодня ночью она совсем расхворалась. Приезжала «Скорая», хотели ее в больницу забрать. Но Лидочка, естественно, отказалась. И теперь просит вас.
– Зачем? – буркнула Надя.
Получилось не очень-то вежливо, но она ведь решила еще вчера: больше никаких контактов со злополучным звездным семейством. Помогать им – себе дороже.
Домоправитель спокойно произнес:
– Говорит, что вчера не успела вам показать какие-то свои пуанты военных лет...
– Вы что, издеваетесь?
– Надя, – вздохнул Егор Егорович. И неожиданно перешел на «ты»: – Можешь, конечно, меня просто послать – и будешь в своем праве. Но пойми и меня. Я всю ночь на ногах. То «Скорая», то истерики... Врачи мне, кстати, лекарство оставили для Лидии Михайловны и шприц. Сказали, если не успокоится – вколоть ей, и она уснет хотя бы на пару часов. И другим даст поспать. Но я не могу с ней так поступить, не могу колоть против ее воли. А она никак не угомонится. То одно, то другое. Сейчас вот эта блажь втемяшилась – требует тебя. Говорит, что, если ты не приедешь, сама встанет и отправится тебя искать.
– А Лидия Михайловна, – Надя замялась, – она сейчас в здравом уме?..
– Да хрен ее поймет! – буркнул Егор. – То плачет, то смеется. Маразматичка чертова! – И, словно устыдившись своей вспышки, церемонно произнес: – В общем, сама решай. Если не приедешь, я в обиде не буду. Постараюсь Лидии Михайловне все объяснить.
– И она, конечно, меня проклянет... – пробормотала Надежда.
А про себя подумала:
«М-да. Умею я ввязываться в истории... Я, кажется, собиралась предаться – в отсутствие Полуянова! – светской жизни?»
Впрочем, теперь, после разговора с домоправителем, все равно не уснешь. И на работу ей сегодня только к двум, во вторую смену. И балерину – взбалмошную, царственную, несчастную и абсолютно ей чужую – все равно жаль, как ни пыталась Надя себя убедить, что ей наплевать.
И она убитым голосом произнесла:
– Хорошо. Я приеду.
* * *
Спальня балерины выглядела настоящим будуаром. Светлые тканевые обои, широкая царственная постель с балдахином, огромный шкаф, явно с нарядами, бронзовая статуя амура в углу, антикварная тумбочка, зеркало во всю стену. И дико было видеть хозяйкой всего этого великолепия беспомощную старуху.
...Когда Надя вошла, Крестовская полулежала на двух высоких подушках. Глаза прикрыты, лицо страдальческое, рука стискивает одеяло. И запах, этот неистребимый запах болезни и немощи, который неизбежен что в заштатном доме престарелых, что в роскошной квартире. Здесь, конечно, ни пылинки, и белье чистое, и стакан у кровати хрустальный, и облатки с таблетками – на серебряном подносе, но все равно: так и хочется бежать из этой комнаты со всех ног. В город, в лето, в столичную суету.
«Может, все же она заснула?» – с надеждой подумала Митрофанова.
Однако Крестовская, не открывая глаз, велела:
– Сядь рядом.
И никакого тебе «спасибо», никаких извинений, что грузит абсолютно постороннего человека своими проблемами.
«Овца я, и больше никто, – безжалостно заключила Надя. – Надо было хотя бы у этого Егора денег на такси потребовать, а не тащиться в самый час пик на метро».
Она, правда, пока ехала, фантазировала: вдруг знаменитая балерина решила ее своей душеприказчицей объявить? А что – она дама непредсказуемая. И близких родственников у нее нет. А все прочие кандидаты... Люся мертва, Влад – подозрительный, Егора Крестовская лишь терпит, потому что нуждается в нем, а Магду и всех своих прочих подружек – явно презирает. Чего б и не составить завещание в пользу интеллигентной, образованной и порядочной девушки?..
Хотя все это оказалось ерундой, конечно, – про материальные блага Крестовская даже не упомянула. Вцепилась в руку девушки своими желтыми от старости пальцами, снова прикрыла глаза, благодарно произнесла:
– Как хорошо, что ты приехала, Надя... Ты такая... такая... уютная, что ли? Простая, надежная, ничего не требуешь... Это тебе надо было орден давать, да...
«Ага, дождусь я ордена, – хмыкнула про себя Митрофанова. – Прямо завтра мне его поднесут. На таких, как я, простых и нетребовательных, все только и ездят. И ты – в том числе».
А Лидия Михайловна продолжала:
– Знаешь, когда мне было столько лет, сколько тебе, я ведь уже свою первую государственную награду получила... Первую из многих. И когда мы были на гастролях в Киеве, я прикрепила орден себе на платье. Не потому, что хотела похвастаться, нет – просто жила я тогда бедно, и это был мой единственный наряд, и на нем осталась дырочка от брошки... И я просто хотела ее этой наградой закрыть. А когда ехала в троллейбусе, какой-то мужчина увидел меня, совсем молодую, худенькую, с орденом – и потащил в милицию разбираться. Кричал, что такими вещами не шутят... и сколько ни пыталась я его убедить, что это мой орден, он говорил, что я все вру и подросткам подобных наград не дают...
– Лидия Михайловна, – вздохнула Надежда. – Почему вы хотели меня видеть? Я могу вам чем-то помочь?
Но балерина ее будто не слышала. Задумчиво, словно для себя самой, продолжала говорить:
– У меня всю жизнь был такой типаж: жизнерадостной, маленькой девочки!.. Я даже свою партию в «Дон Кихоте» танцевала не как положено, не в пачке. Сам Сталин сказал: «Зачем пачка? Пачка – это что-то официальное. А этой девочке – лучше платьице». А со Сталиным спорить было нельзя, и что поделаешь: я танцевала в хитоне. Я в чем угодно была готова танцевать, не могла без этого... Меня даже, когда я стояла за кулисой, ожидая своего выхода, за подол придерживали: чтобы я не выскочила на сцену прежде времени... Я бы и сейчас танцевала... танцевала...
На глазах Крестовской выступили слезы.
«Ох, до чего все грустно, – пронеслось у Нади. – Не иметь сил даже подняться с постели, но мечтать при этом о балетной сцене...»
И с чего она взяла, будто артистка вызвала ее, чтоб завещать хотя бы частичку своих богатств? Балерина просто увидела в ее лице благодарного слушателя, поэтому и нуждается в ней. Не Егору же, каменному человеку, о былом рассказывать, и не Владу, и не этим ее шумным и бестолковым подружкам...
«Ну, и не убудет с меня, – решила Надя. – Пусть болтает, что хочет. Мне послушать несложно, а человеку – приятно».
Впрочем, с каждой минутой взгляд балерины все более туманился, а речь становилась все бессвязней. Она то вспоминала каких-то давно умерших друзей, то вдруг принималась звать Люсю, потом вспоминала мужа и обращалась к нему...
А Надя терпеливо ждала, пока Крестовская наконец уснет. И когда та умолкла – выждала еще минут пять, тихонько встала с края кровати и на цыпочках прокралась к выходу из спальни. Но на пороге ее оборвал властный голос:
– Вернись!
Вот ведь неугомонная бабка!..
– Лидия Михайловна, – твердо произнесла Надя. – Мне вообще-то сегодня на работу, а я даже не завтракала еще...
– Вот стрекоза. Она летает день и ночь. Ищет собственную тень, – пробормотала балерина.
Ну, это совсем уже клиника. Стихи пошли.
И вдруг она споткнулась об абсолютно разумный, внимательный взгляд Крестовской. И услышала совершенно осмысленные слова:
– Та, вчерашняя история... Когда я обнаружила пропажу из сейфа – помнишь?
– Да, – насторожилась Надежда.
Может, все-таки речь пойдет о наследстве?..
– Ты уже знаешь, что именно оттуда пропало? – потребовала балерина.
– Нет, – пожала плечами Митрофанова. – Мне никто не рассказывал, а я не спрашивала.
– Там была совершенно изумительная, нереально прекрасная вещь... – вымолвила Крестовская. – Птица, сидящая на цветущей ветке... Птица, несущая в клюве всю мудрость мира... – Она запнулась, а потом быстро, торопливо заговорила вновь: – Ее оставил мне мой муж. И это была моя единственная память о нем...
Лидия Михайловна закрыла лицо руками. Ее плечи вздрагивали.
А Наде больше всего сейчас тоже хотелось зарыдать. И выкрикнуть, что она устала, и ей плевать на всех в мире сказочных птиц, и она хочет домой.
– И знаешь, Надя, – балерина вдруг снова вынырнула из своего небытия, – тайна этой птицы тоже досталась птице... Лебедю. Белому лебедю... Ты легко найдешь его, ты сможешь его найти... Туда открыт доступ всем, я сама там была совсем недавно...
Ну, все. Теперь точно бредит.
Однако Митрофанова все же сделала последнюю попытку:
– А как хоть эта ваша птица выглядела? Это картина? Драгоценность? И куда она исчезла?..
– Я... я не хочу... не хочу этого ворошить, – всхлипнула Крестовская. – Человек сделал так – что ж. Бог ему судия. А мне зачем? С собой все равно не заберешь. Но просто в эти последние дни... мне бы так хотелось, чтобы подарок моего мужа оставался со мной. Касаешься его – и будто чувствуешь тепло рук Виктора... Но меня этого лишили... И я знаю, кто это сделал. Лебедь – знает! Отправляйся к нему. В нем разгадка.