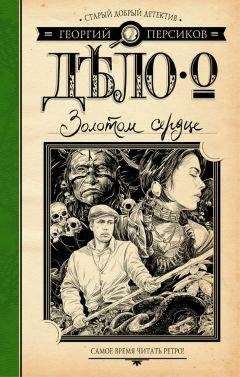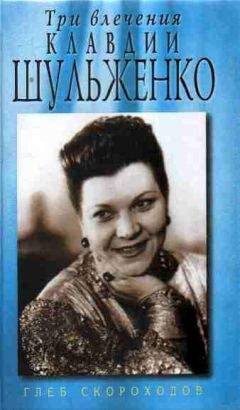– Зачем нужны храмы и все это золото, роскошь, богатства, ведь верить в Бога можно и без них, дома, на площадях, в этой палатке? Христос в сердце, разве нет?
Старик лишь улыбнулся, как улыбается родитель неумному вопросу своего любимого дитя: без злой насмешки, без высокомерия и чувства превосходства, но лишь радуясь, что ребенок хочет познать мир вокруг. Хочет понять, а не заучить. Хочет разобраться и принять истину.
– Где двое соберутся во Имя Мое, там и Я среди них. Почему бы дому Бога не быть красивым… – Романос осторожно взял руку Георгия, будто это он был болен, и положил себе на грудь, туда, где под кожей и ребрами обычного человека билось сердце, которое, казалось, не могло принадлежать смертному. – Не о том ты думаешь, дитя. Оттого-то Господь не всегда в твоей душе. Оттого люди и стреляют друг друга, ибо перепутали любовь со страстью и похотью. Так белое станет черным, а полет превратится в падение. Ищи любовь. Найди любовь в своем сердце. В сердце мира. Любовь к этому миру. Сынок.
Георгий почувствовал невероятный подъем, ему стало тепло, будто в него влили солнечный свет, на секунду он ослеп, а потом и вовсе потерял сознание, не вынеся силы этого всепоглощающего чувства. Никогда – ни до, ни после – он не испытывал ничего подобного.
Когда Родин очнулся, вокруг уже суетились два санитара: один проверял его пульс, а второй укрывал простыней лицо отца Романоса который отправился на встречу с Создателем, со светлой радостной улыбкой, будто и не смерть он встретил, а новое рождение.
* * *
Сердце. Георгий как вкопанный остановился посреди больничного коридора, так внезапно, что сзади на него налетел санитар, несущий стерильные хирургические инструменты. Загрохотал по полу металлический поднос. Родин отчетливо вспомнил ощущение тщедушной груди святого старца под своей ладонью, затухающее биение его сердца. Георгий резко развернулся и поспешил в палату к Ирине, не удостоив взглядом ошарашенного санитара. Мысли роились и гудели у него в голове как разбуженные пчелы. Ну конечно же, любовь, обращенная во зло, сердце – символ любви, как же раньше ему не пришла на ум притча отца Романоса. Молодой врач несся по коридорам земской клиники, и его зеленые глаза метали молнии. Встречные пациенты и медсестры едва успевали убраться с дороги, недоуменно глядя вслед. У Родина зрел план – безумный, конечно, идущий вразрез медицинской науки, но чутье подсказывало, что попробовать стоит.
Отчаянно мела поземка, а низкие облака льнули все ближе к земле. В десяти шагах уже ничего нельзя было разглядеть. Колючее одеяло намеревалось укутать Старокузнецк и не открывать его белому свету в ближайшие пару-тройку дней.
Больничный возница с укоризной посмотрел на Георгия, когда тот велел закладывать сани, но ничего не ответил и отправился исполнять распоряжение. Но увидев, что Родин намеревается отправиться в путь в одной шинельке, заросший бородой до самых глаз здоровенный детина недовольно крякнул:
– Ей-богу, барин, не повезу вас – греха на душу не возьму. Наденьте тулуп, сделайте милость. С улицы выехать не успеем, как околеете!
Хоть Георгий и торопился – это было совершенно очевидно, – а ультиматуму подчинился. Пряча улыбку в густых кущах на лице, извозчик пробасил:
– Куда путь держать прикажете? Хорошо бы недалече – вон какая вьюга разыгрывается. Пропасть нынче – дело пустяшное.
– Да уж я и не рад, что заработал репутацию сорвиголовы, – усмехнулся Георгий. – Нет, в дальние путешествия я покуда не собираюсь. Правь к гостинице енгалычевской – небось с пути не собьемся.
Ехать было недалеко, но тщательно расчищаемые дороги уже основательно замело. Лошадка с трудом бежала по рыхлому снегу, порой проваливаясь по колено. Пару раз Георгию и вознице приходилось вылезать из саней и помогать савраске преодолевать глубокие сугробы.
«Лишь бы он до метели не выехал, а сейчас-то уж у него и не получится», – размышлял Родин.
К крыльцу гостиницы Георгий прибыл раскрасневшимся, в клубах пара, валящих из-под тулупа, но при этом с онемевшими от пронизывающего ветра пальцами и побелевшим кончиком носа.
– Господин Родин не съехал ли еще? – первым делом осведомился он у портье.
– Нет-с, он намеревался покинуть нас около обеда, но со станции сообщили, что все поезда из-за бурана отменяются. Господин Родин был в ярости, но ничего не попишешь, да-с. Он занимает нумер двенадцатый. Прикажете проводить?
Однако Георгий велел услужливому молодому человеку стрелой направиться в ресторан Будылина, что располагался через дорогу, и снабдил его длинным перечнем желаемого заказа. В довершение доктор сверкнул серебром и вложил монету в ловко подставленную ладонь. Глаза портье сверкнули умной преданностью, как у хорошего служебного пса, и он рысью помчал сквозь снег и ветер.
Родин медленно поднимался по ступеням, тщательно обдумывая, как бы выстроить беседу со старшим братом. Мириться ему претило. Восставала гордость, хоть он и признавался самому себе, что был несправедливо резок и холоден. К тому же не восстановление родственных отношений занимало Георгия более всего в данный момент, а странная кататония Ирины. Было ли ее первопричиной загадочное украшение?
Рациональный ум врача восставал против этого предположения. Но богатый жизненный опыт и годами воспитанная склонность к всестороннему анализу склоняли его к тому, чтобы собрать максимум информации и лишь затем строить версии и делать выводы. На душе у него бесновалась буря, ничуть не уступающая разгулу стихии за стенами. В смятенных чувствах Георгий постучал в тяжелую резную дверь.
– Не заперто, входите! – резко ответили из номера.
Родин переступил порог. Всеволод в тяжелом темном халате метался по просторной комнате, как большой сильный зверь в тесной клетке. В руке блестела серебряная фляжка. Увидев младшего брата, он резко остановился и изумленно надломил бровь:
– Вот уж кого я не ожидал увидеть! Признавайся, братец, это тебя вьюгой сюда замело, а?
Сарказм в голосе Всеволода был вполне заслуженным, и Георгий почувствовал, как к лицу приливает кровь стыда. «Хорошо, что щеки еще от мороза не отошли!» – мельком подумал он.
– Нет, я приехал нарочно.
– Полно, стоило ли стараться? Твоя любезность была такой ледяной, что питерская холодность теперь воспринимается, как испанская горячность.
Георгий вполне искренне склонил голову – это соответствовало его плану примирения, но упреки были совершенно справедливы и били, словно пощечины, по его совести.
– Прости, брат! – сказал он, словно бросившись в море с высокой скалы. – Слишком много всего было, слишком много крутилось в голове…
– Кхе-кхе… – откашлялся Всеволод, не ожидавший столь контрастирующего с недавним поведением Георгия откровения.
– Я так понимаю, что ты уже был готов отбыть, – Родин-младший обвел рукой аккуратно составленные в углу чемоданы, баулы, свертки и узлы.
– Ага. В столице скоро должно состояться заседание Русского географического общества, и мой доклад об обычаях народов Анд и Амазонии заявлен в качестве ключевого. Сам понимаешь, упустить миг славы, к которому шел годами, – смерти подобно. Знаешь, моя карьера очень зависит от ряда лиц, и мне надо к каждому подобрать ключик, а время не ждет… Но суровая зима родного края смешала все карты! – Родин-старший беспомощно развел руками и сокрушенно покачал головой.
– Скоро буря пройдет, отправишься в Петербург, и твой доклад признают блестящим! – проникновенно произнес Георгий. – Но в этой задержке есть, может быть, воля Господа.
– Мы с тобой с ранних лет знаем, что неисповедимы пути Его. В чем дело, что еще за мистика?
– А в том, что есть у нас теперь время по-братски сесть за стол и поговорить! – глядя в глаза Всеволоду, твердо сказал младший брат.
– Хо-хо, вот это дело! Но я же совершенно не готов, у меня только ром и сухари, – начал было заулыбавшийся путешественник, но тут в дверь постучали, и после приглашения войти лакеи принялись заносить в номер подносы с едой.
Чего там только не было… В супнице белого фарфора еще булькала только снятая с огня наваристая архиерейская уха. В многочисленных хрустальных розетках горками лежали закуски: белужья икра, налимья печень, говяжий студень с едким хреном да ядреной горчицей, сопливые грузди и хрустящие рыжики. На огромной посудине с соленьями в продуманном беспорядке располагались моченые яблоки, пупырчатые огурцы, пучки черемши и холмы квашеной капусты – и обычной белой с брусникой, и красной со свеклой, и крупно порубленной таежной с можжевеловыми ягодами да морошкой. На тарелках калибром помельче рябило от обилия нарезок: был там и бок кабаний копченый, и медвежатина, выдержанная на ветру, и белоснежное свиное сало, и рулеты по-господски да по-крестьянски, и селедка лозьвинская, и осетринка астраханская. Вмиг обширное помещение переполнилось дразнящими ароматами.