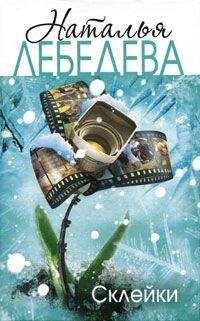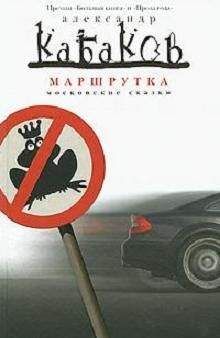Так нельзя жить, просто нельзя. Тогда уж лучше уволиться, чтобы не марать полсотни невинных людей дикими и мерзкими подозрениями. Можно, правда, как Дима, верить, что это – не свои, но...
Но фирмы «Стальные двери» и «Фитодизайн», которые делят с нами подъезд офисного здания, уже в пять вечера запираются на мощные замки, и в тот четверг они тоже были закрыты. Я спускалась на второй этаж, в рекламу, и видела обеих хозяек. «Стальные двери» морщилась, упираясь тоненьким плечиком в тяжелую дверь, и с усилием поворачивала в замке ключ, «Фитодизайн» бросила ключи в сумочку и стала спускаться вниз, балансируя на высоких каблуках.
Внизу – дверь с домофоном. Димка неправ, никто никогда не подпирает ее бруском, я бы хоть раз да увидела. А я не видела. Охранник открывает дверь только по звонку. А если он уходит в туалет, то в офис никак не попасть.
Я не хочу сдаваться, а значит – мне надо узнать.
13 декабря, вторникКороткая неделя: вчера отмечали День Конституции, Надька дежурила, снимала сюжет про всякие официальные праздники. Вчера ей было плохо: работать, когда все отдыхают. Сегодня – хорошо: быстренько все напишет и уйдет домой. И оплата двойная.
Собираюсь спросить у Данки, что у меня сегодня за сюжет, как вдруг открывается дверь. Лиза, которая первой видит входящего, первой же и замирает. Мы, узнав Лапулю, замираем тоже.
Она входит, здоровается сухо и сдержанно, садится на стул прямо посреди кабинета. Одета в черное, не накрашена, губы поджаты, лицо мертво, без эмоций, без выражения: застывшая маска. Под левым глазом, замазанный тональным кремом, засыпанный пудрой – слабый, желто-зеленый след от синяка.
– Дана,– просительно тянет она,– я бы хотела взять вещи, его вещи...
– Конечно,– Данка вскакивает,– вот – чашка его, блокнот, ручки... Что еще?
Данка трет пальцами лоб, вспоминает, крутится на месте, оглядывая кабинет.
– Ты как? – спрашивает Данка, когда ее взгляд вдруг останавливается на Лапуле.
– Нормально,– вдова обреченно кивает головой.– Спасибо.
– За что?
– Как?.. За участие.
Все молчат.
– Вещи,– напоминает Лапуля.
– Ах да!
Данка приносит ей чашку, блокнот, черный паркер без стержня.
– Все,– говорит она.
– Дана,– Лапуля почти не смотрит на все эти мелочи,– а может быть...
Кажется, ей стыдно попросить.
– А может быть,– продолжает она,– ты дашь мне его рабочую кассету?
– Кассету? – Данка растеряна.– Зачем тебе кассета?
– Я понимаю, что у вас их мало, что они что-то стоят, но я заплачу, Дан. Просто там голос, он задавал вопросы и, может быть, попал где-то в кадр... Я заплачу, сколько надо.
– Оль,– Данка подсаживается к ней,– да какие деньги, брось! Я бы дала, но не знаю, где она. Правда. Эдик же в барсетке носил, да?
Лапуля кивает.
– Барсетку забрали – милиция.
– А может быть, есть другие кассеты? Ты не находила?
– Нет, не находила. Оль, прости. Если найду что-то, обязательно тебе позвоню.
– Ладно. Ну... пока тогда?
– Пока.
Мы отворачиваемся: неловко смотреть, как она запихивает в сумку старую кружку в коричневых потеках застывшей заварки.
В коридоре становится шумно: кто-то громко и дико смеется. Толчком ноги распахивается и бьет о стену наша дверь. Входит Юрий Цезарь – диджей и директор радио.
– Че?! – орет он с порога.– Сахар есть?!
Цезарь идет через кабинет прямо к ящику, в котором мы храним заварку и сахар, и выдвигает его так резко, что ящик едва не вылетает из стола.
– Юр, ну ты совсем обнаглел! – Данка разводит руками.
– А че?! – Он разгибается, поворачивается, и тут видит Лапулю: – О! Привет...
Даже хам Цезарь при виде вдовы каменеет.
– Я пошла,– тихо говорит она и уходит.
– Ни хрена се! – тянет Цезарь вполголоса и выковыривает из коробки несколько кусочков сахара.– И фингал! Хорошо ее Малышева, я не ожидал: мелкая она такая.– Это Малышева ее? – Данка соображает первая.– Юр, правда Малышева? Когда?
– Да в тот четверг.
– Это когда Эдика?!
– Ну да, мать, я и говорю.
И Юрка рассказывает.
Это было в четверг, во время прямого эфира.
Гость ушел в студию, и только его охранник стоял в коридоре возле туалета, переминаясь с ноги на ногу. Со своего места охранник видел стеклянные двери балкона и – за углом – дверь в студию. Данка, уходившая домой, позвала его подождать в кабинете новостей, но он отрицательно покачал головой. Данка засмеялась и ушла.
Цезарь вышел покурить. Охранник посторонился, пропуская его, и снова вернулся на место. На балконе Цезарь увидел Малышеву: та стояла, прислонившись к стене, накинув на плечи короткую меховую куртку. Внизу, на деревьях, на крышах домов искрился, отражая огни городских фонарей, снег.
– Че, мать, домой не идешь? – спросил Цезарь.
– Да так. Волкова жду.
– Этого, что ли? – Цезарь махнул головой в сторону студии и выпустил изо рта плотную струю дыма.– Депутана? Зачем?
– А! – Малышева махнула рукой, и пепел, слетая с сигареты, посыпался на утоптанный курильщиками снег.– Надо позвать его в передачу, он не хочет...
– Вот скотина! – Цезарь заржал.
– Точно,– и Малышева медленно затянулась.
Цезарь быстро выкурил свою сигарету и скептически посмотрел на то, как Малышева достает из пачки вторую.
Только он вышел с балкона, как открылась дверь, ведущая с лестницы, и в коридор вошла Лапуля. Цезарь поднял в приветствии руку и, обогнув охранника, скрылся в туалете.
Малышева выглянула с балкона в коридор и нехотя махнула Лапуле.
– Сигаретка есть? – настороженно поглядывая на охранника, спросила та. Малышева махнула пачкой.
Когда Цезарь вышел из туалета, разговор на балконе шел на повышенных тонах. Женщины что-то кричали, рукав Лапулиной шубы чертил по двери, и рыжие ворсинки прилипали к влажному стеклу.
Цезарь не ушел, ему хотелось посмотреть.
Раздался резкий визг, и черная Лапулина сумочка, громко стукнув о стекло балконной двери, вылетела в коридор. Что-то хрустнуло и зазвенело, и обе женщины выкатились в коридор.
– Ни хрена себе! – крикнул восхищенный Цезарь: драка была фантасмагоричной. Маленькую, худую Малышеву было трудно рассмотреть в объятиях высокой и крупной Лапули. Только черная косая челка мелькала иногда среди рыжего меха шубы и желтых Лапулиных волос.
Лапуля всегда хорошо смотрелась рядом с высоким, ярко-черным Эдиком, они оба были неторопливы, вальяжны и склонны к полноте. Однако, несмотря на рост, Лапуля проигрывала Малышевой: резкой, решительной, острой, готовой к драке. Малышева побеждала, она хотела сделать сопернице больно, и это у нее получалось. Лапуля взвизгивала от страха, теряла клоками волосы, уворачивалась от острых ногтей, пытаясь уберечь лицо. Малышева дралась молча.
Охранник Волкова очнулся первым. Он схватил Малышеву за шею и, слегка придушив, отбросил в сторону. Вырвавшись, Лапуля взвизгнула и бросилась к выходу.
Малышева встала и пошла вверх по лестнице к себе, на четвертый этаж. Пошла так, словно никто не дрался, а просто на балконе была выкурена пара сигарет.
Цезарь уходит, а все продолжают молчать, словно он все еще рассказывает свою короткую байку. – Почему? – спрашиваю я у компьютера.
– Узнали,– отвечает своему компьютеру Надька.
– Точно: узнали,– Данка кивает снежинкам за окном.
– О чем? – спрашиваю я, и Данка поворачивается ко мне.
– О том, что...– тянет она,– что спали с одним мужчиной.
– С Эдиком?! – Моему изумлению нет предела. Мне всегда казалось, что он слегка завидует Малышевской должности, тому, что она была маленьким, но более высоким, чем Эдик, начальством. Ему, конечно, тоже хотелось получить приставку «главный».
– Нет, почему с Эдиком? С Виталем.
Я молчу. Что я могу сказать? Я никогда не вижу таких вещей и всегда неприятно им удивляюсь.
– Как они могли узнать? – спрашиваю я чуть погодя.
– Как, как! – отмахивается Данка.– Стояли, курили, разговаривали: вот и договорились. Случайно, как еще? Никто из них, наверное, и подумать не мог. А Виталь Малышевой днем еще и денег не дал. Она мне жаловалась – чуть не плакала.
– Денег? На что?
– Она хотела ехать за границу на Новый год, ей не хватало, как всегда... Обычно он давал, а тут... Наверное, собирался ее бросить...
– Как это грустно.
Дима сегодня эфирит9 , нет никаких сил его дожидаться.
– Я пошла, пока! – На секунду мое лицо появляется в ярко освещенной студии, где пристегнутая к петличке Малышева уже расправила сутулые плечи, ожидая, когда включится камера. Дима кивает, машет мне рукой и склоняется к видоискателю, проверяя, хорошо ли выстроен кадр.
Иду по темному коридору: нет привычного гула голосов, легкого шума, который возникает от одного только молчаливого присутствия многих людей; через прикрытую балконную дверь льется в офис ночная тишина, и только в спину мне – свист новостийной заставки. Она не нарушает тишины, она – отдельно, в том ярком мире, к которому я не имею отношения. Я словно рыба: рожаю сюжет, как икринку, и наплевать, что будет с ним дальше и как он проживет свою жизнь там, на экране, на мониторах в ярко освещенной студии. Так не должно быть, мне не должно быть все равно, но так есть: маленький телеканал – конвейер, поток, бесконечный нерест... Рыба сошла бы с ума от любви к миллиону икринок.