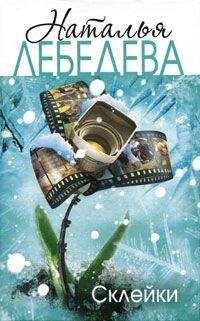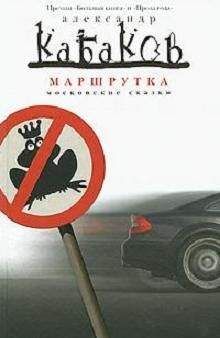Я стою в куртке у закрытого окна.
Анечка болеет, я еду вместо нее в Законодательное собрание.
Коридоры, покрытые старыми ковровыми дорожками зеленого цвета с красными полосами по краям, деревянные панели стен болезненно-желтого цвета, под дуб. Строгие охранники, лоток с пирожками, разговоры, улыбки, пожатия рук. Места для прессы – последний ряд, но зал невелик, видно и слышно всегда хорошо.
Сегодня – бюджет. Глава города здесь, напряжен и даже напуган. Ему хочется денег.
Заседание начинается. Пока решают процедурные вопросы, я расслаблена, и оператор спокоен. Вот он ходит меж рядов, то приближаясь ко мне, то удаляясь, но всегда связанный со мной тонкой ниточкой общего сюжета. Сегодня я с Сеней. Он – рыжий, с веснушками по белой коже, которая всегда отчего-то кажется мне липкой; он легко краснеет: от смущения, усталости или жары. У него длинные тонкие пальцы, одинаково легко гнущиеся во все стороны. Сенька сейчас в трех шагах от меня, его пальцы, выползая из-под фиксирующего ремешка, включают и выключают запись. Они уже красные, как дождевые черви. Я смотрю на них, и мне кажется, что красные дождевые черви хотят зарыться в черную камеру, как во влажную землю.
Посчитали явившихся-неявившихся, огласили повестку, поздравили с днем рождения губернаторскую замшу, и теперь с трибуны течет главный доклад по бюджету.
Мне не надо ничего говорить, я знаю: Сенька пишет. Штатив установлен, микрофон подключен, камера глядит на докладчика, сам Сенька – возле, смотрит по сторонам, время от времени – в видоискатель, иногда – на меня. Я поднимаю в воздух руку, мой указательный палец чертит в воздухе дугу: «пишем». Сенька кивает. Ждет, когда я скрещу руки перед собой, и это будет означать, что синхрон окончен. Потом опять – дуга и крест, безотказно работающая система.
Мэр на трибуне. «Пишем-пишем-пишем»,– машу я Сеньке. Главная интрига дня: удастся ли ему урвать еще кусок областного бюджета? Губернатор слушает расслабленно: тут хозяин он. Мэр, такой вальяжный вчера, в коридорах думы, здесь – дерганый и зависимый; поразительные различия. Ходят слухи, что губернатор съест его в конце концов. Уже маячит на горизонте уголовное дело... Мэр, говорят, совсем не слушается. Хотя что-то мне подсказывает, что уголовное дело не растет на пустом месте. Мне неприятно всех их видеть, находиться рядом с ними; сейчас я понимаю это особенно ясно.
В офисе спокойно. Девчонки – за компьютерами, Данка скучает у телефона: а что ей делать? Выпуск наполнен.
– Лиз, а когда у нас Тэфи-регион? – спрашивает Данка, разглядывая ногти.
– Не знаю, а что? – Лиза даже головы не поворачивает от монитора.
– Я думаю: давайте поучаствуем.
Надька коротко хмыкает, Данка задета.
– А что,– говорит она,– мы хуже других? Вот сегодня – нормальный выпуск.
– Говорящие головы,– шелестит Лиза.– Три заседалова подряд, ни одного живого человека.
– Зато на двух – скандал. Оксанка, был на Законодательном скандал?
– Был,– отвечаю я вяло.– Конечно, был.
– Нарядный?
– Нарядный. Орали здорово. Все.
Мой голос тягуч и вял: мне кажется, что я и скандал с криками и стуком по председательскому микрофону – в разных плоскостях. Собрание со скандалом проплывает мимо меня в прозрачной замкнутой сфере, я слышу нервные звуки, вижу круги вибраций, а мой шар – иной, и плывет он в иную сторону. Кто-то пускает мыльные пузыри, я и собрание – искаженные отражения, раскрашенные ядовитыми цветами мыльных бликов.
Девчонки делают вид, что пишут тексты. Я устало снимаю куртку. Кому какое дело до Тэфи? Данка обиженно поводит плечами и уходит курить.
– А почему не поучаствовать? Вдруг выиграем? – спрашиваю я и натыкаюсь на четыре пики: черные зрачки, два недовольных презрительных взгляда.– Все же работают так. Нет?
– Нет.– Лиза печально качает головой.– Некоторые работают нормально. Но их мало.
– И мы – нормально. Мы же выкладываемся, девчонки! Мы же стараемся!
– Старания мало.– Лизин тихий голос удаляется, уходит внутрь нее.– Надо, чтобы кто-то кроме нас хотел, чтобы было хорошо. Данка, дирекция.
– А разве им все равно? Разве они не хотят?
– Нет, но у нас о «все равно» – разные понятия. Данке важно собрать выпуск «снаружи», чтобы сюжетов было больше трех, и чтобы хоть один был важным. Дирекции – чтобы губернатор остался доволен...
– Но как же? Вот смотри: если у тебя есть сюжет, и есть возможность быстро, как попало, его написать и пойти домой, или придумать что-нибудь «этакое», что ты выберешь? Я же знаю, ты будешь сидеть до последнего, лишь бы вышло лучше, потому что тебе не все равно! Ты ведь так и делаешь, Лиз! И я так делаю! Вот помнишь мой сюжет про коров?..
Лиза криво улыбается: я взвиваюсь от этой улыбки:
– Я могла бы написать, как в пресс-релизе, про головы и литры. Но я постаралась сделать что-то интересное!
Улыбка не стерта. Лиза странная, никак не могу ее понять.
– Что, Лиза? Что?!
– Оксан, я помню твоих коров, но...
– Плохо? – Что-то важное оседает во мне, как сугроб – за ночь февральской оттепели.
– Плохо.
– Почему? – задаю вопрос, сжав зубы. Я обижена и оскорблена, я раздавлена и уничтожена, но если не узнаю, в чем тут дело, если сделаю еще один сюжет, достойный лишь кривой улыбки,– умру.
– А почему – нет? – Лиза уже не улыбается, в чертах ее лица – крайнее напряжение, глаза прищурены, она вспоминает сюжет, хочет объяснить и помочь.– Оксана, скажи, кому интересно, что коровам будет тепло всю зиму? Кому это важно? Трем сердобольным девственницам климактерического возраста? Кому? Кому нужно это нытье про милых и славных коров? Никому. Никто не смотрел твой сюжет, кроме доярки, которая мелькнула в кадре на сороковой секунде. И точно так же никто не стал бы смотреть его, если бы ты просто переписала релиз.
– А что же делать? – растерянная, беспомощная, барахтаюсь в воде, а ноги никак не нащупают дна.
– Вариантов много. Можно написать, как ты и хотела,– про коров. Показать новый коровник и старый, сравнить, поговорить о прежних условиях с доярками. Картинка должна быть контрастной: этот – светлый и сверкающий, тот – с низкой крышей, загаженными стойлами, темный, с грязным сеном. Вот тогда люди вздохнули бы с облегчением: надо же, коровы выбрались из такого ужаса! Можно по-другому: спроси себя, стало ли лучше молоко? Как изменилось оборудование? Стало чище? Безопаснее? Ответь людям на вопрос, что они покупают в магазинах... Можно вообще пойти от парадокса: а стало ли лучше? Может быть, старый коровник был экологически чистым, а этот – нет? Может быть, теперь в молоко добавляют что-нибудь вредное – вот в этих огромных аппаратах? Что там в них происходит? Они нам на пользу или во вред? Вариантов много...
Медленно прихожу в себя. Все просто – когда тебе объяснят. Слетает шелуха, ядро – на ладони.
– А почему,– спрашиваю я Лизу,– ты сама так не делаешь?
– Как почему? – Она искренне удивлена.– Ведь просто же... Чтобы сделать такой сюжет, надо взять несколько запасных интервью у доярок, найти старый коровник, поснимать, взять интервью у специалиста по всей этой технике, чтобы узнать, что там за штуки, приехать в офис, позвонить экологам, в санэпидстанцию и на молокозавод, куда привозят это молоко, а потом съездить к ним на интервью... А сколько времени обычно Данка дает тебе на съемки? Час – полтора. И не потому что стерва, а потому что на четверых – две машины и два оператора. Впрочем,– Лиза грустнеет и отворачивается от меня,– были у меня донкихотовские порывы. Делала я такие сюжеты.
– И что?
– Девчонки же первые и озлобились: пока я делала одно, им приходилось делать все остальное. А потом я и сама поняла: знаешь, сколько я в том месяце заработала?
– Сколько?
– Почти нисколько. Платят ведь не за качество, а за каждый сюжет поштучно, сама знаешь. Это роскошь – такие сюжеты. Я ее себе позволить не могу. Мне платить за съемную квартиру.
Сажусь к компьютеру. Сюжет не пишется. Скандал в мыльном пузыре уплыл куда-то совсем далеко.
7 декабря, среда Телеканал – странное место. Тут шумно вечером, много людей утром, а днем – тишина. Студия отдыхает от эфира, в аквариуме аппаратной сонно запускает рекламные ролики видеоинженер. Диджеи безвылазно сидят у себя на радио, и только их быстрые тени пролетают по коридору на лестницу, когда заканчивается смена. «Новости» разъезжаются на съемки, прихватив с собой операторов, начальство появляется на этаже крайне редко.
Полдень, я уже сняла два сюжета. Иду по пустому коридору. У студии – полутьма. Останавливаюсь, чтобы вспомнить, зачем шла сюда, и не могу. Не хочу заходить просто так: до сих пор боюсь этого места. Передо мной, сразу за дверью – крохотный предбанник. Взгляд упирается в вешалку, на которой сейчас одиноко болтается куртка видеоинженера, а по утрам и вечерам висит одежда приходящих на эфир гостей.
Слева и справа – тусклый свет, бормочут телевизоры, а мне чудятся тишина и темнота.