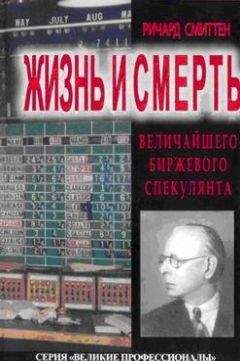— Да, — хозяин, сидевший в глубоком кресле, сказал это тихо, очень тихо, после длинной, длинной паузы. — Да… Но не только я его узнал, когда закончил первую серию операций. Он тоже узнал меня. Он спросил медсестру, как зовут доктора, которому он обязан жизнью. Ловко выпытал, сколько мне лет, откуда я родом. Он ничем не выдал себя, однако я понимал, чего он боится, почему хочет поскорее выписаться из больницы, исчезнуть. Он надеялся, что я его не узнал, фамилия другая, да и был я тогда ребенком… Но ему приходилось держаться настороже, скрывать от меня свой страх. Ему пришлось выдержать разговор о парике, начатый мною, пришлось принять из моих рук новую жизнь и свой новый парик…
— Но ведь вы могли, доктор… — заикнулся Левандовский.
— Нет, не мог, дорогой мой, именно этого доктор не мог сделать, — тихо сказал майор Кедровский. — И именно поэтому наша встреча носит такой характер. Несмотря на все, она носит такой характер и вообще состоялась.
— Совершенно верно, именно этого я не мог сделать. Достаточно было какого-нибудь недосмотра, попросту недосмотра — и я развязал бы себе руки, а на свете стало бы одним негодяем меньше… Но я подумал, что общее число негодяев в таком случае не изменится. Одного не станет, зато прибавится другой. Нет, дело тут не в клятве, которую дает каждый врач. Я не придаю значения никаким клятвам, для меня это не более как формальность. Я прислушивался только к голосу своей совести. Вы и представить себе не можете, сколько часов я просиживал ночами в этом самом кресле, в котором сижу сейчас, и думал, неотступно думал: как мне поступить?
— Но почему вы не обратились к нам, в прокуратуру, в суд? — Кедровский поднялся, наклонился к хирургу.
— Потому что приговор был уже вынесен.
— Чей приговор?
— Пожалуйста, взгляните сами! — Доктор, не вставая с кресла, повернулся, взял с полки тонкую картонную папку, развязал тесемки, вынул большой лист, на который была наклеена узкая пожелтевшая полоска папиросной бумаги, густо исписанная на машинке, и протянул ее Кедровскому. Майор наклонился еще ниже, чтобы в свете лампы разобрать пожелтевшие буквы: „Приговор. Подпольный суд приговаривает Анджея Коваля к смертной казни за измену польскому государству, сотрудничество с гестапо и выдачу польских граждан — борцов за независимость… 1943 год“.
— Приговор был вынесен, в Коваля стреляли. И попали. Но только ранили, не убили. Он оправился и после этого стал носить парик. Шрам от той пули я нашел во время операции… Копию приговора хранила моя сестра и отдала мне, когда я уже стал мужчиной… Нет, ни она, ни я в то время не рассматривали это как посвящение в мстители. Нам и в голову не приходило искать Коваля. Она просто передала мне страшную семейную реликвию.
— Но ведь этот приговор сейчас не имеет законной силы! Он ничего не значит!
— Для меня значит.
— Как гражданин нашего государства, доктор, вы обязаны подчиняться его законам, согласно которым у нас, как во всем цивилизованном мире, самосуд недопустим. А это был самосуд…
— Да, можно расценивать это так. Однако чувствовать можно иначе. Кроме того, как известно, жернова правосудия при таком сроке давности мелются очень медленно, порой еле ворочаются. Существуют суровые статьи закона, но существует также и амнистия! Двадцать лет спустя суды стали более снисходительны. Да, майор, я во всем отдаю себе отчет с самого начала, и если бы кто-нибудь пришел ко мне посоветоваться, как ему поступить в подобном случае, я бы посоветовал ему обратиться в милицию, в прокуратуру, в суд. Однако куда легче дать умный совет другому, чем самому себе.
Не вдаваясь в лишние подробности, нескольким своим друзьям я рассказал, что кто-то столкнулся с гестаповским провокатором, виновником смерти десятков людей. А может быть, сотен? Ведь я не знаю всех преступлений Коваля. Может быть, он выдал и настоящего Анджея Кожуха?.. Так вот, я спрашивал друзей, что делать человеку, раскрывшему тайну… Все мои друзья предлагали пойти в милицию, к прокурору, в суд. Они повторяли мне то, что я и без них прекрасно знал. Однако я знал еще одну вещь. Я знал, что не смогу недобросовестно подойти к лечению этого человека. Каждого пациента я лечу добросовестно…
— Нам известно, что вы замечательный врач…
— Допустим… Но по отношению к нему мне надо было проявить максимальную добросовестность. Его мне надо было во что бы то ни стало вылечить, поставить на ноги, возвратить к жизни. Я должен был этого добиться, чтобы не упрекать себя в том, что избрал бесчестный способ мести. И потому, пока он лежал у меня в больнице, пока он был моим пациентом, я не мог пойти, например, к вам, майор, и выдать его вам. Ведь это, собственно, одно и то же. До тех пор, пока он оставался в больнице под моим наблюдением, я не имел права, не имел никакого морального права мстить. Тогда мне было уже все дозволено. Я знал, что в действительности вылечил его именно для этого. Перед судьбой мы теперь равны, надо свести старые счеты. И побыстрее, потому что он собирался уезжать, я рисковал потерять его из виду. Хотя в то время еще не был вполне убежден, что он узнал меня, что он именно меня боится…
— А теперь вы уверены в этом?
— Уверен. Он сам признался мне в последнюю минуту своей жизни. Я вам скажу, как это было. С медицинской точки зрения не было никакой необходимости в моих визитах. Однако я пошел к нему через несколько часов после того, как он выписался из больницы. Я ходил к нему, чтобы не упустить его. Каждый вечер я шел гулять и часами бродил взад и вперед возле гостиницы. Я подсчитал, какое окно его, и два вечера подряд сторожил это окно, как собака, пока в нем не гас свет. В среду я был у него во второй половине дня и все еще не знал, что делать. То есть я понимал, что надо отвести его в милицию, но мне было как-то неловко, неудобно. Он сказал, что очень мне благодарен, что завтра уезжает…
— Он собирался ехать только через несколько дней. Ждал машину, обещанную Познанским…
— Мне он сказал так. Он хотел, чтобы я перестал к нему ездить. Вы полагаете, что он убил Закшевского, грозившего ему разоблачением… Меня он не мог убить. Быть может, потому, что я подарил ему жизнь. Быть может, потому, что его все же мучили призраки прошлого. А может, попросту он был еще слаб. Вполне возможно, что он хотел лишь убежать от меня. И тогда-то я решил больше не медлить. Вечером я надел тонкие кожаные перчатки. Вы их найдете в шкафу. Я взял кинжал, который был у меня очень давно, он однажды попался мне на базаре. Я купил его, подумав, что такая вещь пригодится в хозяйстве. По пути, не снимая перчаток, я купил сигареты.
— „Спорт“, — прошептал Левандовский. — Сейчас мы уже знаем. Вы курите „Кармен“ и „Спорт“.
— Сигаретами „Кармен“ я угощаю, сам курю только „Спорт“. Я очень волновался. В вестибюле гостиницы было очень людно. Никто не обратил на меня внимание. Я рассчитывал, что даже если портье меня заметит, предыдущие визиты обернутся мне на пользу. Я считал, что мои приходы и уходы в гостиницу спутаются у него в памяти. Дверь в номер была не заперта. Он уже переоделся в пижаму. Он смотрел на меня с изумлением. Я положил на стол пачку „Спорта“, которую все время нес в руках — ее я потом забыл взять, — и сказал ему, что знаю, кто он: Анджей Коваль. Тогда он сказал, что он меня тоже узнал, что я сын доктора Смоленского, брат Кристины. Он сидел в кресле, даже не пытаясь встать. Быть может, он оцепенел от неожиданности? Я вынул из кармана приговор, вынесенный двадцать лет назад, и прочел ему его. Я спросил, что он может сказать в свое оправдание. Он ответил: ничего. Тогда я вынул кинжал и ударил его прямо в сердце…
Страшные слова тонули в уютной мирной комнате, растворялись, пропадали. Неужели действительно человек, сидящий в глубоком кресле, все это сделал? Он продолжал:
— Отец наклонился надо мной и поцеловал в лоб. Как каждый вечер. Мне было тринадцать лет. Я боготворил отца, он был для меня всем. Наша дружба возникла с началом войны. Раньше каждый из нас жил своей жизнью. Во время оккупации жизнь семьи сосредоточилась в стенах дома. Отец стал для меня ее центром. Он читал мне прекрасные книги, несколько, быть может, преждевременно приобщил меня к большой литературе, говорил со мной о величии и жестокости мира. Отец внушал мне любовь к жизни. Разумеется, не к гитлеровскому порядку, который он учил меня ненавидеть так же, как ненавидел сам. Я участвовал в подпольной работе моих сестер. И отец в ней участвовал. Неправда, что подпольную организацию у нас создал Коваль. Когда Коваль приехал, организация уже действовала. Коваля приняли в организацию, потому что отец и сестры ему доверяли. Неправда, что Коваль был влюблен в одну из моих сестер. Это не более как досужий вымысел городских сплетниц. Не знаю, чем объяснялось доверие моего отца к этому человеку. Для меня оно непостижимо, однако я верю, что отец руководствовался какими-то серьезными соображениями. Мы проводили с отцом вместе долгие часы. У отца стало больше свободного времени. Он разговаривал со мной как со взрослым человеком, никогда не называл меня уменьшительным именем, всегда полным: Ежи. Часами он рассказывал мне обо всем на свете. Мы говорили до поздней ночи, погасив огонь. На прощание он наклонялся и целовал меня в лоб, а я жал ему руку. Это была прекрасная дружба сына с отцом. Он уходил потом к маме, в спальню. Сестры спали в своей комнате. А я — в маленькой клетушке в конце коридора. Там стоял шкаф. В тот угол не доходил свет тусклой лампочки, едва тлевшей у входа. И вот однажды меня разбудил шум. Я оцепенел от страха. Ускользнув на минуточку от гестаповцев, отец просунул голову в мою дверь и тихо сказал: лежи не шевелись… Этой двери, загороженной шкафом, гестаповцы не заметили. Дождавшись, когда все ушли, я соскочил с постели. Пустой дом был опечатан. Младшая сестра, Ванда, через окно первого этажа убежала в сад, а оттуда пробралась к соседям. Я остался один, залился слезами. Я был потрясен. Весь день просидел в опустевшем доме, не в силах двинуться с места. Лишь к вечеру я оделся, взял немного вещей, вылез через окошко и побежал к соседям. Там мне дали адрес сестры, которая скрывалась от фашистов. Гестаповцы, вероятно, решили, что я убежал с сестрой, меня не искали. Больше отца я не видел. Никогда не знаешь, когда видишь самого близкого человека в последний раз. Может, это и к лучшему… Простите! Мне не следует так много говорить. Я должен только подтвердить добросовестность и объективность следствия и протянуть вам руки…

![Иоанна Хмелевская - Бабский мотив [Киллер в сиреневой юбке]](https://cdn.my-library.info/books/184651/184651.jpg)