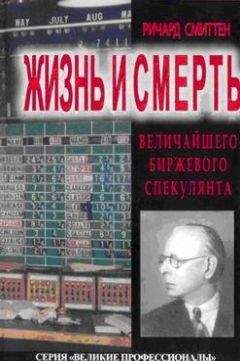— Отец наклонился надо мной и поцеловал в лоб. Как каждый вечер. Мне было тринадцать лет. Я боготворил отца, он был для меня всем. Наша дружба возникла с началом войны. Раньше каждый из нас жил своей жизнью. Во время оккупации жизнь семьи сосредоточилась в стенах дома. Отец стал для меня ее центром. Он читал мне прекрасные книги, несколько, быть может, преждевременно приобщил меня к большой литературе, говорил со мной о величии и жестокости мира. Отец внушал мне любовь к жизни. Разумеется, не к гитлеровскому порядку, который он учил меня ненавидеть так же, как ненавидел сам. Я участвовал в подпольной работе моих сестер. И отец в ней участвовал. Неправда, что подпольную организацию у нас создал Коваль. Когда Коваль приехал, организация уже действовала. Коваля приняли в организацию, потому что отец и сестры ему доверяли. Неправда, что Коваль был влюблен в одну из моих сестер. Это не более как досужий вымысел городских сплетниц. Не знаю, чем объяснялось доверие моего отца к этому человеку. Для меня оно непостижимо, однако я верю, что отец руководствовался какими-то серьезными соображениями. Мы проводили с отцом вместе долгие часы. У отца стало больше свободного времени. Он разговаривал со мной как со взрослым человеком, никогда не называл меня уменьшительным именем, всегда полным: Ежи. Часами он рассказывал мне обо всем на свете. Мы говорили до поздней ночи, погасив огонь. На прощание он наклонялся и целовал меня в лоб, а я жал ему руку. Это была прекрасная дружба сына с отцом. Он уходил потом к маме, в спальню. Сестры спали в своей комнате. А я — в маленькой клетушке в конце коридора. Там стоял шкаф. В тот угол не доходил свет тусклой лампочки, едва тлевшей у входа. И вот однажды меня разбудил шум. Я оцепенел от страха. Ускользнув на минуточку от гестаповцев, отец просунул голову в мою дверь и тихо сказал: лежи не шевелись… Этой двери, загороженной шкафом, гестаповцы не заметили. Дождавшись, когда все ушли, я соскочил с постели. Пустой дом был опечатан. Младшая сестра, Ванда, через окно первого этажа убежала в сад, а оттуда пробралась к соседям. Я остался один, залился слезами. Я был потрясен. Весь день просидел в опустевшем доме, не в силах двинуться с места. Лишь к вечеру я оделся, взял немного вещей, вылез через окошко и побежал к соседям. Там мне дали адрес сестры, которая скрывалась от фашистов. Гестаповцы, вероятно, решили, что я убежал с сестрой, меня не искали. Больше отца я не видел. Никогда не знаешь, когда видишь самого близкого человека в последний раз. Может, это и к лучшему… Простите! Мне не следует так много говорить. Я должен только подтвердить добросовестность и объективность следствия и протянуть вам руки…
— Это не обязательно, доктор.
— Каждый призван выполнять свой долг. Вы в первую очередь.
— К сожалению, вы правы, — вздохнул майор Кедровский. — Но вам не надо протягивать рук. Вы нас ждали?
— Откровенно говоря, ждал… Собственно, выйдя из комнаты Коваля — уже мертвого, — я хотел идти в милицию, сказать вам всю правду. И передумал, решил подождать до завтра. Мне хотелось вернуться в свою пустую квартиру — такую же пустую, как отцовский дом в ту страшную ночь, захотелось опуститься в кресло, в котором я сейчас сижу, захотелось наедине с собой оценить свой поступок. Поступил ли я правильно? Я не был в этом уверен. В глубине души я до сих пор не уверен в этом. Но иначе я поступить не мог. И в эту бессонную ночь я стал взвешивать все „за“ и „против“. „С какой стати, — спрашивал я себя, — мне и моим пациентам страдать за то, что этот преступник убил моего отца, мать и десяток других жертв? С какой стати мне обвинять себя? В чем? В том, что я избавил людей от чудовища?“
— У которого есть дочь, очень любившая его, — прошептал Кедровский.
— Невозможно вечно сочувствовать всем и каждому! Я волею судеб привел в исполнение приговор, справедливость которого не подлежит сомнению. Свершилось предначертание судьбы. В чем же мне каяться, ради чего ускорять развязку? Нет! К утру я принял твердое решение: ничего не предпринимать. Не скрываться и не сознаваться. Предоставить исход дела самой судьбе, подвергнуть то, что произошло между мною и этим негодяем, как сказал бы верующий, суду Божьему, поручить себя провидению. Если в один прекрасный день вы придете за мной, я протяну руки — надевайте наручники! Если же не придете… Что ж, я не стану торопить вас. Не буду возражать, ни слова не скажу первый…
— Доктор, — тихо прервал Смоленского майор. — Мы обязаны найти виновного. Кем бы он ни был и чем бы ни руководствовался.
— Я на вас не в обиде. Вам незачем передо мной оправдываться, человек обязан выполнять свой долг. Я свой выполнил, поэтому сохранил уважение к себе. И вы тоже, что бы ни услышали от меня сегодня, выполняете свой долг.
— Вы взялись сами вершить правосудие, а это никому не дозволено. Вас придется арестовать.
— Для того вы ко мне и пришли.
— И вы готовы?
— Нет, майор, я еще не готов. Я буду готов через несколько часов, утром…
— Вы сами к нам придете.
— Благодарю вас за доверие, майор.
Утром Левандовский вбежал в кабинет майора.
— Сегодня ночью Смоленский покончил с собой. Порошки и газ. Выломали дверь, но было уже поздно…
Майор ничего не ответил. Наступило молчание…
1
Фён утих перед рассветом
Оркестр в который уже раз за эту новогоднюю ночь принялся играть „Рамайя“. Танцы были в самом разгаре, толпа бушевала — возбужденная, потная, бессмысленно веселая. Эти люди не поддавались даже фёну, который дул уже несколько дней. Он свалился на Закопане сразу после Рождества и с тех пор не затихал ни на минуту, превращая остатки снега в грязные лужи, обволакивая серой пеленой бело-пушистые скалы и терзая курорт необыкновенно теплой для этой поры погодой. Развеселая толпа, которая с самого начала года шаталась по Крупувкам, явно упала духом. Не помогали даже зонтики, придающие „покорителям гор“ унизительно-комический вид. Фён не уходил из долины назло всему этому изысканному обществу, которое целый год в разных уголках Польши примеряло лыжи, мечтая о празднике в горах, а потом всю ночь ехало стоя в переполненных, опаздывающих поездах, и зачем? Чтобы в конце концов оказаться под дождем, в тумане, во власти мучительно-теплого, влажного ветра, вызывающего сердечные приступы.
Мне с самого начала все это не нравилось, но Мацек и Данка праздник, как всегда, решили провести в Закопане. Они еще со студенческих времен признавали лишь этот вид отдыха и не изменили своей традиции и сейчас, достигнув немалых успехов в научной карьере. Только на этот раз они захватили аспирантку со своей кафедры, которая — они сообщили об этом в первую же минуту встречи — пишет кандидатскую диссертацию о банковских контрактах. Эля оказалась необыкновенно милой девушкой, и так в новогоднюю ночь мы все четверо оказались в ресторане, где царила страшная толкотня. К счастью, наш столик стоял у самого окна, пляшущая толпа была далеко от нас.
Вокально-инструментальный ансамбль „Стасик и Ясек“ как раз закончил исполнение „Ла Паломы“. Руководитель ансамбля вел переговоры о дальнейшей программе с мрачным типом, который вытащил из кармана пятьсот злотых. Где-то в центре зала с грохотом лопнул воздушный шарик, вызвав взрыв одобрительного смеха. У стойки бара адвокат Закаптурны и его супруга дегустировали все сорта коньяков по очереди. Увидев меня, адвокат вежливо кивнул величественной седой головой.
Ожидая, пока не началась музыка, Эля поправляла прическу. И тут я заметил, что к нашему столику пробирается пан Тосек. Он рассекал толпу, словно ледокол. До недавнего времени пан Тосек служил курьером в прокуратуре. Пару месяцев назад он решил покинуть это уважаемое заведение и стал гардеробщиком „Ватры“. Мне такая перемена принесла определенную пользу, поскольку я мог получить столик в этом ресторане в любую минуту, и это весьма укрепило мою репутацию в здешнем „высшем свете“.
Пан Тосек наконец добрался до нас. Воротник его рубашки был помят, а глаза возбужденно блестели. Сначала он почтительно поклонился Эльжбете, а потом таинственно шепнул мне на ухо:
— Пан прокурор, вас к телефону.
Ах да, я забыл сказать, что голос у пана Тосека очень громкий, и поэтому секретное сообщение произвело немалый эффект: все вокруг уставились на нас, а одна из танцевавших пар отступила на безопасное расстояние. Оркестр снова заиграл, на этот раз какую-то незнакомую мне мелодию.
— Пан Тосек, — сказал я с упреком, — сколько раз я просил вас, чтобы вы не пугали народ официальными званиями! Где телефон?
Пан Тосек оскорбленно засопел.
— У пана директора в кабинете, пан про… — мой ледяной взгляд лишил его дара речи. Он повернулся и отправился в обратный путь, расталкивая танцующих. Следя за его действиями, я пришел к выводу, что именно таков должен быть охранник президента, который не может прорваться к трибуне сквозь толпу ошалевших избирателей.

![Иоанна Хмелевская - Бабский мотив [Киллер в сиреневой юбке]](https://cdn.my-library.info/books/184651/184651.jpg)