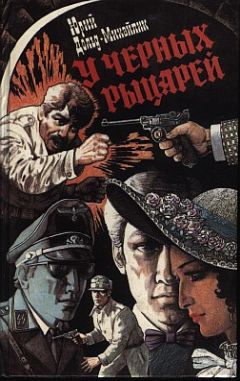- Возле ваших могил кто-то сидит. Не местный, я вижу его впервые.
Юноша быстро направился к той же ограде, где сидел незнакомец. Еще издали он увидел темно-русые волосы, которые словно расчесывал ветер, и немного склоненную вперед фигуру.
- Простите, мсье,- начал юноша и вдруг умолк.- Ой, это вы?!
- Бонжур,- тихо произнес Генрих, пожимая руку брата Моники. Он видел его второй раз в жизни, но эти глаза, глаза Моники, были такими знакомыми, такими родными, что Генриху не надо было спрашивать, с кем он разговаривает.
- Мама умерла совсем недавно... Она так часто вспоминала вас...
- Не надо говорить об этом, Жан!- Генрих поднялся. На его глазах дрожали слезы.- Передайте привет всем знакомым, и особенно - Франсуа.
- Спасибо, он тоже вас помнит.
- А как чувствует себя Людвина Декок?
Жан нахмурился.
- Ее убили,- коротко ответил он и отвернулся.
- Анрэ Ренар, надеюсь, жив? Вы с ним встречаетесь?
- Он недавно был здесь, но сейчас в Париже.
- Когда будете писать, обязательно передайте от меня самые искренние пожелания.
- Он очень обрадуется, когда узнает, что я видел вас, и будет огорчен, что это произошло не с ним...
Наступила неловкая пауза. У обоих на губах было одно имя, но они боялись произнести его, взволнованные упоминаниями и встречей.
- Прощайте, Жан!- не выдержал напряжения Генрих. Он чувствовал, что к горлу подкатывает тугой комок.Берегите ее могилу. Это тот клочок земли, к которому всегда будут стремиться мои мысли.
Генрих наклонил голову и быстро пошел к выходу.
ЭПИЛОГ
Какая же чудесная была весна!
Она пьянила, как вино, она возбуждала, как радость, она роднила людей, как роднит счастье.
Четыре года люди боялись неба, с которого со свистом и воем низвергалась смерть. Четыре года люди с болью разворачивали газеты, ведь даже победы приносили новые утраты. Тревожно открывали наглухо занавешенные на ночь окна. Со страхом разворачивали треугольнички фронтовых конвертов. Осторожно спрашивали друг друга об общих знакомых и друзьях. Ибо всюду, везде можно было услышать страшное к неумолимое слово: смерть.
И вот впервые за эти долгие годы люди убедились, что небо снова на диво чистое, что по нему уже не плывут уродливые, украшенные крестами корабли смерти. А пьянящий майский воздух, врывающийся в широко распахнутые окна, не приносит с собой смрада пожарищ. И люди, дышали полной грудью, упиваясь воздухом, который словно вобрал в себя и сияние солнца, и жизнерадостность весны, и счастье бытия.
На улицах здоровались совсем незнакомые люди. А если случайно встречались двое друзей и бросались друг другу в объятия со словом "жив!"прохожие останавливались, чтобы нарадоваться вместе с ними.
И у всех если не на губах, то в сердце, во всем существе жило одно, такое прекрасное и одинаково радостное для всех слово - МИР!
О, теперь люди стали ценить его! Теперь де было слова дороже, чем это. Ибо все знали: война - это смерть, мир - это жизнь!
Молодой офицер в форме капитана Советской Армии, шедший по московским улицам, ничем не отличался от молодых офицеров, попадавшихся ему навстречу. Так же счастливо и возбужденно сияли его глаза, так же охотно складывались в улыбку губы. Может быть, только чересчур восторженно осматривал он все вокруг и особенно пристально вглядывался в лица встречных, словно в каждом прохожем хотел узнать знакомого.
Возле одного из домов капитан остановился и несколько раз перечитал табличку, прибитую у входа. Одернув и без того хорошо пригнанный мундир, капитан вошел в дом и по лестнице поднялся на третий этаж. Вот и знакомая, обитая дерматином дверь. Капитан тихонько постучал.
Услышав неразборчивый возглас, офицер заколебался. Что это - разрешение войти или просьба подождать? Но он был не в силах больше сдерживать себя и наобум открыл дверь.
Ослепительный солнечный свет, заливающий просторный кабинет, бьет прямо в глаза, и капитан не сразу может разглядеть, кто сидит за столом. Он скорее догадывается, чем узнает: да, это тот, к кому он шел.
- Разрешите доложить: капитан Гончаренко, выполнив задание, прибыл в ваше распоряжение.
Полковник Титов выходит из-за стола и, игнорируя положенную по уставу форму приветствия, трижды целует офицера, целует, как отец сына после долгой разлуки.
- Ну, садись, садись, барон фон Гольдринг!- смеется он, разглядывая подтянутую фигуру капитана.- Так, говоришь, прибыл... Вижу, вижу. Жив, здоров! Молодец! Хвалю!
Они сидят друг против друга и широко улыбаются.
- Признаться, боялся за тебя, не надеялся на счастливый конец! А что, думаю, если напутал нарочно в мелких деталях? Мол, в основном сознался, а детали - дело десятое, случаются ведь провалы памяти... Да и вывез его отец совсем мальчишкой...
- А как, кстати, сейчас чувствует себя мой тезка?
- Он из другого теста, чем его отец, Зигфрид. Возможно, сказалось влияние среды. Что ни говори, а он ребенком попал в совершенно иное окружение. Припертый к стене, Гольдринг быстро во всем сознался, ведь ты сам с ним беседовал, знаешь... За правдивые показания суд смягчил его участь... Ну, все это сейчас не суть важно! Главное, что ты вернулся жив и невредим!.. Отца предупредил о приезде?
- Нет! Я боялся даже писать. А что если вдруг... Ведь четыре года прошло!
- Здоров и бодр! Я узнавал о старике, работает там же, на железной дороге стрелочником.
- Сегодня же, если разрешите, выеду к нему.
- Придется разрешить! Только ты не забудь попросить прощения и от моего имени. Объясни отцу, что и как. Да он старик толковый, поймет!.. Ну, а что ты собираешься делать дальше, Григорий Павлович?
- Я ушел в армию из института иностранных языков. Мне бы хотелось вернуть свои студенческий билет.
- Студенческий билет, говоришь? Что ж, правильно решил. Учись! Нас с тобой заставили стать людьми войны. А теперь мы будем людьми мира