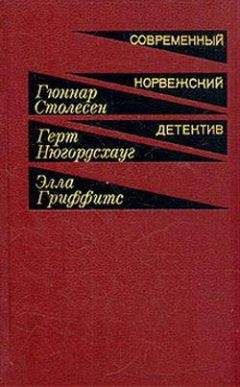– Ну?
– Если честно, – тут Воге понизил голос, – я не верю. Во всяком случае, пока сам не увижу. Людей пора научить говорить только то, что они знают. Ведь говорят же: «Вон, Воге снюхался с этой молодежью». А несколько месяцев назад они даже подписную кампанию проводили за то, чтобы закрыть наш клуб. Но не многие их поддержали. Большинство родителей понимают и ценят идею создания клуба. Ведь если бы не клуб, здесь давно была бы не одна компания, а двадцать, да похлеще, чем у Юхана.
– Допускаю. Тем не менее я говорю именно об этой компании, и, уж конечно, они не ангелы. А если и ангелы, то не носят лайковых перчаток, – я показал на свое лицо, на котором еще были видны следы вчерашней баталии. – Я вообще не красавец, но не стал привлекательнее после того, как Джокер и компания разрисовали меня вчера наверху у домика.
– Может, ты их спровоцировал?
– Я пошел, чтобы забрать похищенного ими мальчика. Меня об этом попросили.
Я заметил, что Гюннар слегка остыл.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил он.
– Похищение. Так это называется там, где я живу. Украли мальчика по имени Роар. Накануне они украли его велосипед, а вчера его самого.
– Я уверен, что ничего плохого они не собирались с ним сделать, – сказал Гюннар.
– Конечно, нет. Однако я нашел его со связанными руками, с грязным кляпом во рту. Они поступили с ним, как с надоевшей игрушкой: поиграли и выбросили.
Воге поднялся и, обойдя стол, приблизился ко мне.
– Послушай, Веум, я реалист. Я знаю, что эти ребята не ангелы, и не пытаюсь оправдать их полностью, до конца, но хочу понять их и их прошлое. Оно не всегда безоблачно и объясняет, почему кое-кто из них агрессивен и циничен, как, например, Юхан. – Воге сел на краешек стола и сложил руки на коленях. – У Юхана не было отца. – Воге задумался и продолжал: – Можно сказать, что отцов была тысяча – ты понимаешь, что я имею в виду. Полагаю, что даже его родная мать не знает, чей он ребенок. Отцов могло быть слишком много. Их и потом, уже после рождения Юхана, было много. Ее называют проституткой. Я разговаривал с ней о Юхане. Когда она бывает трезвой, ее можно назвать умной женщиной. Но это случается редко. А почему она стала гулящей? На этот вопрос отвечает еепрошлое: росла в детском доме, в тринадцать лет ее изнасиловал один из воспитателей, в пятнадцать – отправили в колонию для несовершеннолетних преступников, в конце войны якшалась с немцами, за что была клеймена железным клеймом. Так что Юхану было несладко, и все-таки он не какой-нибудь дурачок. Напротив, он умен, блестяще умен. С его умом и с такой матерью ему была уготована одна дорога. Впрочем, может, две. Он мог стать либо художником, либо психопатом, и он стал психопатом.
– Он мог бы еще стать частным сыщиком, – заметил я.
Воге холодно взглянул на меня.
– Я знаю таких, как ты, Веум. Я слишком много таких встречал. Вы так боитесь жизни, что отгораживаетесь от нее стеной. Вы можете утешить несчастного и в то же время ради удачной остроты продадите мать родную.
– Моя родная мать умерла, и я не умею удачно острить.
– Вот именно. Ха-ха! Ты и есть яркий пример того, о чем я толкую. Знаешь, ты лучше уходи, Веум. Что-то ты мне не нравишься.
Я продолжал сидеть, не двигаясь.
– Мать этого Юхана… где мне ее найти? – спросил я.
Воге спрыгнул с письменного стола и, расправив плечи, встал вплотную передо мной.
– Честно говоря, я думаю, что это не твоя забота, Веум. Ты можешь напортить больше, чем предполагаешь. Ты как раз из таких. Я тут стараюсь наладить контакт с подростками, что-то им дать, ну просто помочь, в конце концов. Если хочешь, можешь назвать меня садовником, и я предпочитаю, чтобы никто не топтал мои грядки.
– Даже если хотят прополоть?
– Черт тебя дери, Веум! Я не люблю говорить о себе. Я не хочу называть себя идеалистом или как-то иначе, но я хочу прожить свою жизнь с пользой. Когда-то я работал инженером-электриком, имел хорошее место, много зарабатывал. Мог купить дом, жениться и все такое прочее. Но я остановился, огляделся и подумал: какого черта ты творишь со своей жизнью, Гюннар? Оглянись вокруг. Ты работаешь на предприятии, которое больше других загрязняет природу в районе Бергена. Ты сидишь в конторе с автоматическим регулированием микроклимата и планируешь новые предприятия, новые источники загрязнения. А в твоем родном городе, в городе, где ты живешь, есть люди, которым нужна твоя помощь. Живые люди. Меня не интересует политика. Я не революционер. Но если говорить о революции, то она должна свершаться вместе со сменой поколений. Наше поколение – твое и мое – деградирует. Мы – сборище трусливых шутников, ни во что не верящих: ни в революции своих отцов, ни в Иисуса Христа. Мы – неверующее атеистическое поколение невежд. Ты, Веум, черт тебя побери, мой прототип: таким я был несколько лет назад.
Он передохнул и продолжал. Для человека, не любящего говорить о себе, он был великолепным оратором.
– И тогда я сошел с круга, – продолжал он. – Поступил как и ты. Окончил специальную школу и стал делать дело. Ну а теперь погляди на нас: я работаю и занимаюсь тем, для чего я выучился, а ты… – и он скорчил презрительную гримасу.
– Я тоже делаю дело, но по-своему, у меня другие методы.
Он внимательно посмотрел на меня.
– Да, конечно, может быть, ты прав. Но вне официальных рамок, не так ли? Это типично для послевоенных пугливых интеллигентов. Вне всяких границ, за пределами всех правил. Ты запоздалый хиппи, Веум. Запоздавший на десять лет.
– Сожалею, но я должен идти, Воге, – поднялся я. – Было приятно посидеть и послушать тебя. Ты бы очень понравился моей жене. Моей бывшей жене.
Он снова сделал презрительную гримасу.
– Вот именно. Жалость к самому себе. Это и есть последний признак. Синдром алкоголика. Впрочем, быть может, ты настолько современен, что предпочитаешь гашиш.
– Акевит, – ответил я. – Для лучшей ориентации.
– Значит, темными зимними вечерами ты сидишь один, сосешь бутылку и пускаешь пузыри, любуясь своим одиночеством, ведь правда? – Он придвинулся ко мне так близко, что я ощутил запах кофе у него изо рта. – Но один из нас выбрал одиночество добровольно. Просто решил жить один. В этом большой смысл. Одиночество дает больше возможностей жертвовать собой ради того, во что веришь. Не думай, что я не мог жениться. Я мог бы сделать это неоднократно.
– Неоднократно, – произнес я с притворной завистью, но он мне поверил.
– Да. Но я сказал себе: нет. Когда я подошел к этому моменту, к этому поворотному пункту в моей жизни, я подумал: я уже далеко прошел по жизни один и оставшийся путь смогу пройти в одиночку!
Он оглядел кабинет.
– Это мой дом, – продолжал он и, кивнув на пустой подвал за своей спиной, добавил: – А там – мои дети. Если я могу им помочь, чего еще мне надо?
– По столовой ложке любви утром и вечером? – предположил я.
– Любовь – это не то, что берешь или принимаешь, как рыбий жир. Любовь – это то, что даешь, что можешь отдать другим.
– Вот именно, – сказал я и больше ничего не добавил. Ничего веселенького и остроумного, чего он ждал от трусливого послевоенного индивидуалиста, я сказать ему не мог.
Мне оставалось только уйти, и я ушел.
Я даже не сказал «прощай». Я полагал, что он поймет это так, будто комок подкатил мне к горлу и я боялся выдать это голосом.
Я немного постоял на улице, размышляя.
Что я делал сегодня? Зачем мне все это нужно?
Я посмотрел на часы, взглянул наверх, туда, где жила Венке Андресен: балкон на девятом этаже, окно Роара, кухонное окно, входная дверь. В кухне горел свет.
Я направился к дому, вошел в подъезд к лифтам. Пока я ждал, подошла женщина и встала рядом со мной. Я поздоровался – осторожно, – она испуганно посмотрела на меня, будто я сделал что-то неприличное. Наверное, те, кто живут в этом доме, не здороваются друг с другом. Это был другой мир, и мне следовало помнить об этом. Но тут женщина преодолела испуг и улыбнулась мимолетной, смущенной улыбкой.
Женщина была обычной, ничем не примечательной. Наверняка когда-то, несколько десятилетий назад, она была хороша. Сейчас она уже перевалила за первую половину столетия, и эта прожитая половина оставила явные следы на ее лице. Здесь кто-то сеял, кто-то собирал, но неизвестно, кто на этом заработал.
Ее волосы были когда-то черными – теперь в них проглядывали пряди седины, весьма декоративные, если тебе нравятся зебры. Карие глаза с тоненькими красными прожилками на белках, рот с привкусом горечи, будто она только что выпила лишний бокал «кампари».
Невысокого роста, но изящная или полноватая, сказать было трудно, так как на ней была свободная темно-коричневая меховая шубка. Мех явно видал лучшие времена, но все же мог согреть одну замерзшую душу в замерзшем теле. Красивые ноги. Скорее всего, она подменила их на полпути: ногам нельзя было дать более тридцати.