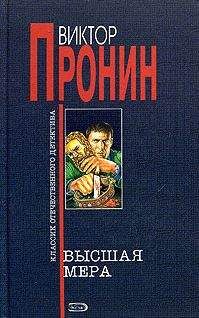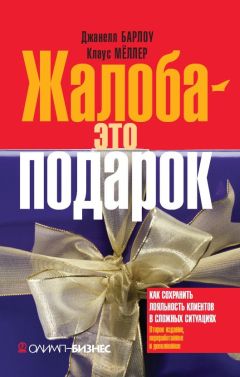- Не надо. Это не имеет значения. Конечно же, она не бросила его сразу у двери. Когда мужики ворвались в квартиру, женщина не стала вызывать лифт, ей надо было побыстрее уйти с этажа. И она ушла. А бланк бросила по дороге.
- Неужели именно его ты и надеялся найти? - спросил Брыкин с восхищением.
- Нет, конечно… Но что-нибудь в этом роде… Это могла быть едва початая сигарета, какая-нибудь мелочь из квартиры Апыхтина, что-нибудь в крови… Ты видел, сколько там было крови? Не может быть, чтобы у них на руках, на одежде не осталось ни капли. Когда мы их найдем, то обязательно обнаружатся вещи со следами крови.
- Не обнаружатся, - сказал Брыкин.
- Почему?
- Сам же говоришь - грамотные ребята. Я бы на их месте все сжег, вплоть до носков, трусов, майки.
- Тоже верно, - согласился Юферев.
- Значит, ищем женщину?
- Да, ищем женщину, которая пользуется такой вот красной помадой. Цвет довольно редкий, - заметил Юферев. - Сейчас красятся синей помадой, зеленой, малиновой, видел даже желтую, но такую, чисто красную… По-моему, редкий цвет. Во всяком случае, не столь уж частый.
- Если она не сменила помаду после сегодняшних событий, - заметил Брыкин.
- Это невозможно. Помады слишком дорогие, чтобы ими вот так легко бросаться. И потом… - Юферев помолчал. - Почему, собственно, она должна ее менять? В квартире не была, следов не оставила, единственный человек, который ее видел, с которым она разговаривала, - жена Апыхтина… Она ничего уже не скажет. Нет-нет, у этой женщины, как мне кажется, молодой женщины, нет причин маскироваться, менять внешность, одежду, помаду.
- Думаешь, молодая? - с сомнением спросил Брыкин, не заметив, как сам втянулся в обсуждение юферевской догадки.
- Конечно! Отморозки не возьмут с собой на дело старуху или женщину в годах… Это должна быть их баба, их подруга и соучастница… Она, скорее всего, и раньше помогала им, или, скажем иначе, они и раньше привлекали ее для своих дел. Опять же помада, - Юферев взглянул на бланк, лежащий перед ним на столе. - Губастенькая девушка. Яркая. Отчаянная.
- Саша! - воскликнул потрясенный Брыкин. - А это откуда взял?
- Посмотри на отпечатки… Эти губки тоненькими не назовешь. Могу кое-что и о волосах сказать… Скорее всего светлые у нее волосы, крашеные.
- Это тоже видно по губной помаде? - Брыкин уже совладал с растерянностью и вернулся к своему обычному насмешливому тону.
- Представь себе молодую женщину, стоящую за ширмой. И сквозь вырез в ширме ты видишь только полные губы, выкрашенные помадой чистого красного цвета… Представил?
- Ну?
- Остальное можешь вообразить?
- Конечно!
- Ее приятели, эти отморозки… Достаточно крутые ребята, верно?
- Куда уж круче!
- У них свои вкусы… Они выбирают женщин, которые привлекают внимание окружающих, хотят, чтобы все видели, какая обалденная телка у него, какая оторва, какая сексуальная стерва… Какие у нее ноги! Какое на ней шмотье! Как она хохочет, показывая всем желающим все тридцать три своих зуба!
- Тридцать два, - поправил Брыкин.
- Да? - удивился Юферев. - А мне почему-то казалось, что у человека тридцать три зуба… Надо же…
- И где же он находится, этот тридцать третий? - расхохотался Брыкин. - Ладно, Саша, ладно… Все это очень интересно, но при одном условии - что эта баба действительно существует, что она в самом деле коснулась губами телеграфного бланка, когда звонила в апыхтинскую квартиру.
- Вот этим ты завтра с утра и займешься, - сказал Юферев. - А я отправлюсь в банк. Знакомиться с тамошними порядками. С тамошними людьми.
- Постой-постой! - забеспокоился Брыкин. - Что значит займешься? Как я найду красавицу, которую ты так явственно увидел на этом бланке?
- Рассказать? - удивился Юферев. - Тебе? Мастеру сыска? Человеку с собачьим нюхом? Валера, я не могу поверить, чтобы такая женщина вошла в дом и никто этого не заметил, никто не обратил на нее внимания. Подъезды запираются, установлены сложные замки, которые открываются с помощью кодов. Если же отморозки узнали код заранее, то все равно ее должны были увидеть - идет девяносто девятый год, Валера! Люди смотрят друг на друга подозрительно и опасливо, от каждого ждут пакости, ставят бронированные двери, подъемными кранами укладывают на дороге многотонные бетонные блоки, чтобы во двор не въехала чужая машина. Окна первых этажей забраны решетками, будто тюрьма арендует эти здания. У каждого в кармане газовый баллончик! Наступили наконец счастливые перемены, страна вступила в рыночные отношения! У нас нет, слава богу, цензуры, каждый говорит все, что хочет, желающие могут даже рассказать анекдот о президенте или послать его на все тридцать три буквы русского алфавита! Ты забыл, в какое время живешь, Валера! Не может такого быть, чтобы во двор вошла незнакомая, смею надеяться, яркая женщина, прошла вдоль всего дома, вошла в подъезд, поднялась на какой-то там этаж, позвонила в дверь известного банкира… И чтобы всего этого не увидела ни одна живая душа?! Думаешь, такое возможно?
- Этот мусор, - Брыкин кивнул на середину комнаты, - можно выбрасывать?
- Досмотрим уж до конца. - Юферев вышел из-за стола. - Но кажется мне, что главное мы уже нашли.
В эту ночь Апыхтин почти не спал. Время от времени впадал в какое-то тягостное забытье, чувствовал себя тяжелым, неповоротливым, взмокшим и даже, забываясь, жалко и беспомощно постанывал. Потом спохватывался, садился на кровати и тут же вспоминал все, что произошло накануне.
- О боже… - произносил он с тяжким вздохом. И снова опрокидывался на подушку.
Его раздражала собственная полнота, борода казалась тяжелой и ненужной, под одеялом становилось душно, и он отбрасывал его в сторону. Потом шел в ванную, долго смотрел в зеркало, и наступало в душе какое-то удовлетворение от того, что он не узнавал себя, хотя твердо знал - из зеркала на него смотрит именно он, Апыхтин Владимир Николаевич. Он плескал в лицо холодную воду, не вытираясь, шел в спальню, падал на кровать, со стоном переворачивался на спину и смотрел в слабо сереющий потолок.
Утро затягивалось, никак не могло собраться с силами, создавалось такое ощущение, словно кто-то сознательно оттягивает рассвет, чтобы сильнее досадить ему, довести до полного безумия.
- Ладно, ребята, ладно, - бормотал Апыхтин. - Ничего… Авось… Разберемся.
Иногда ему казалось, что в квартире кто-то есть, ходит по комнате, заглядывает на кухню. Он даже различал звуки шагов, шелест одежды, дыхание. Прислушивался, замирая от ужаса, от какой-то невероятной надежды: вдруг все, что он помнил, было сном, болезнью, бредом, вдруг все это его сумасшествие? И к этому он был готов - собственное умопомешательство принял бы с радостью.
Апыхтин поднимался, осторожно открывал дверь, выглядывал в комнату, всматривался в темные углы, которые, казалось, таили в себе какую-то жизнь, включал свет и видел все то же: голый пол, распахнутую дверь в Вовкину комнату и пустоту, болезненно остро ощущалась пустота в квартире.
Тогда он брел на кухню, открывал холодильник, а убедившись, что ничего там нет, захлопывал его и возвращался в спальню.
И опять во всех подробностях видел сумрачное сырое помещение, холодную бетонную плиту и на ней Катю - голую, спокойную.
А рядом, на соседней плите, лежал Вовка, тоже спокойный и притихший. Вот-вот, именно притихший, каким бывал, когда Апыхтин, случалось, ругал его за какие-то там провинности.
- Ничего, ребята, ничего, - бормотал Апыхтин. - Я исправлюсь. Вот увидите, я буду совсем другим.
И старался вытеснить из сознания картину морга, избавиться от жуткого наваждения - ему казалось, что и Катя, и Вовка, не двигаясь, но чуть скосив глаза, наблюдают за ним, боясь напугать слишком уж явным к нему вниманием.
А потом вдруг Апыхтин сразу, неожиданно как-то вспомнил, что в кладовке, среди стиральных порошков, паст и жидкостей, стоит бутылка с совершенно непереносимым зловонным самогоном. Его привез давний друг с Украины, решив порадовать Апыхтина старым, почти забытым напитком. Катя не выбросила самогон только потому, что изредка использовала его для протирки мебели, хрусталя, окон.
- О! - воскликнул Апыхтин. - О! - повторил он и, поднявшись, зашагал босыми ногами к шкафчику в ванной. Большой, грузный, взлохмаченный, со съехавшей набок бородой и обвисшим животом. - Скорее в параллельный мир, ребята, только там я смогу выжить.
Бутылка с мутноватой, полупрозрачной жидкостью оказалась на месте. Самогона в ней было даже больше, чем он предполагал, - три четверти бутылки. В движениях Апыхтина появилась твердость, осмысленность. На кухню он прошел уже быстрой, четкой походкой, даже живот подобрался.
Сковырнув ножом пластмассовую пробку, Апыхтин, торопясь, налил самогон в подвернувшуюся чашку. Все он сделал быстро, почти суетливо, словно опасался, что кто-то может через секунду заглянуть к нему на кухню, застать за этим вот занятием, срамным и недостойным.