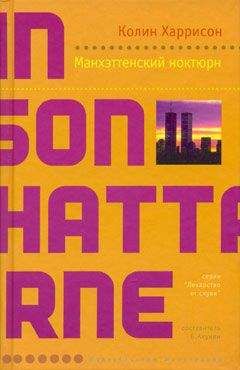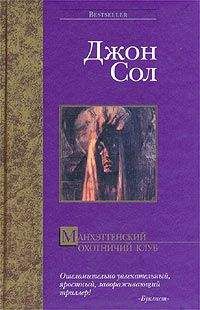Через двадцать минут такси притормозило в центре, прямо у моей кирпичной стены. Я всегда вытаскиваю ключи, перед тем как открыть дверь, потому что, когда такси уезжает, улица погружается во мрак и к вам может подойти кто угодно и откуда угодно. Даже в стельку пьяный, я не забывал о параноидальной атмосфере Нью-Йорка. И только закрыв за собой на задвижку тяжелую калитку, я смог наконец расслабиться. Город остался по ту сторону стены. Но при чем тут были калитки, стены и засовы, если отныне Кэролайн Краули и история ее злополучного мужа, так странно встретившего свой роковой конец, навсегда вошли в мою жизнь?
* * *
Шесть тридцать утра; пьяная рука (моя рука) под руководством пьяной башки (моей башки), хватая пальцами воздух, нащупала телефон рядом с кроватью, нанесла удар по телефонной трубке, сбросив ее при этом с рычага, затем все так же ощупью нашла последнюю кнопку автоматического набора, помеченную словами «Бобби Д.», в которую, после всех манипуляций, с силой уперся пьяный указательный палец (тоже мой). Как только телефон зазвонил, руке удалось поднять трубку с пола, пока в пьяной башке бродили мысли о Кэролайн Краули, самой красивой женщине, которую я ни разу не трахнул, а в это время уши, вполне трезвые, дожидались ответа Боба Дили, ночного сотрудника отдела городских новостей, человека изнуренного вида с мертвенно-бледным лицом, выглядевшего так, словно он выпил бензина и съел кошачью блевотину, хотя удивляться тут особенно нечему, если в течение двадцати лет просиживаешь каждую ночь в редакции новостей, слушая полицейское радио, обзванивая полицейские участки, прочитывая дюжину газет со всех концов страны и поглощая пончики, а вместе с ними и немалое количество газетной бумаги.
– Редакция Дили у телефона.
– Что новенького, Бобби?
– А-а-а, Портер, мы имеем столкновение такси с каким-то умником на нижнем Бродвее. В час ноль четыре в переулке нашли лежащего навзничь очередного неизвестного, а-ы-а, а в семь ноль-ноль два молодых служащих фармацевтической фирмы, нубийцы по национальности, убиты выстрелом в голову. Но это никого особо не взволновало. В Бруклине некто ограбил банк с помощью отбойного молотка – вырвал ящик с ночным депозитом. В Мидтауне у нас парочка кретинов попыталась прокатиться на пожарной машине, ехавшей по вызову. Так, еще – подожди, не вешай трубку…
Наконец-то затуманенные винными парами мозги начали различать другие голоса. Лайза и дети были внизу. Ложки и миски. Все дети любят овсянку. Любят маму. Добра с детьми. Выглядит вполне прилично, проплывает через день по миле, и когда захочет, вполне может взвинтить меня до чертиков. Любит этим делом заниматься так, чтоб сзади. Почему? Вроде глубже входит, помимо всего прочего. «Ей нравится. Не бросайся яичницей! – Мам, каша осталась, я больше не могу. – Солнышко мое, надо скушать. – А Томми не ест овсянку. – Он ест яичницу, лапонька». Она так долго кормила детей, что они напрочь испортили ей титьки. Высосали подчистую. «Хочу соку. – Ты хочешь соку? – Соку! Хочу соку, мам! – Ешь кашу, Салли!»
– А-а-а. Портер, а у нас тут чемпион по прыжкам в воду…
Я открыл глаза:
– Какой мост?
– У тебя странный голос. Ты что, заболел?
– Нет, какой мост?
– Бруклинский.
– Еще что?
– Парень из строительной конторы, – пропыхтел Бобби, – сломал ногу на работе, не мог больше купить себе пожрать, а его подружка пошла по магазинам. Парень помер от разрыва сердца, не долетев до воды. Когда его вытащили, он был в шапке.
– Рассказывай!
– Точно.
– Мужик прыгает с Бруклинского моста и остается в шапке?
– Да говорят тебе… в полиции сказали, что на голове у него был надет головной убор.
– Ну хватит заливать, Бобби.
– Ну сам их спроси.
– Представляю себе этот головной убор, не иначе как футбольный шлем.
– Не угадал, просто бейсболка, как у «Янки».
– Значит, у него под подбородком была резинка!
– Нет.
– Вот блин, тогда эта чертова бейсболка сидела на клею!
– Нет.
– Ладно. Скажи лучше, ты для меня припас что-нибудь?
– Ясное дело. Я… извини, я сейчас… подожди, не вешай трубку.
Я закрыл глаза и прислушался; внизу стоял невыразимый гвалт. «Тебе намазать еще вишневого джема? – Соку! Соку! – На, Томми, держи. – Ешь омлет. – Не-а! – Мамуля делала его для тебя». Моя жена ну прямо-таки святая. Какое счастье, что я на ней женился. Мужчина видит персиковое платье, и нате вам – у него эрегированный пенис! Кому какое дело до того, что ее мужа переехал бульдозер? Хорош, черт меня подери. Обычный кобель с бушпритом. Приди в себя, подумал я, постарайся понять, чего это стоит. Ну просто крыша съехала. Если пить чаще, то ли еще будет. Я наплел какого-то вздора. Она все прекрасно поняла. «Подбери овсянку, солнышко, и выпрямись, пожалуйста, будь добра, Салли, сядь сейчас же прямо. – Не могу. – Выпрямись, ты расплескиваешь овсяную кашу по всему… я сказала, СЯДЬ ПРЯМО! Хорошо, теперь правильно, барышня, будь умницей, ну пожалуйста! Мы о тебе заботимся или обо мне? – Хоцю яицко! – Ты только что бросил свое яичко! – Съишком хоёдное! – Слишком холодное? – Да! – Я его подогрею. – Мамочка, а когда люди умирают, их тела совсем сгнивают? – Кто тебе это сказал? – Люси Мейер. – Это сказала Люси Мейер? – Хоцю яицко! – Да, Томми! Сладенькая моя, когда люди умирают, у них еще остается дух. – А что такое дух? – Это, у-у-у – вот, солнышко. – Съишком гоячее! – Оно не слишком горячее! – Что такое дух, мамуся? – Подуй на него, солнышко. – Съишком гоячее! – Просто подуй на него. – Падуй?» Из колонки сегодня ни черта не получится, так что я, пожалуй, сделаю несколько звонков, поваландаюсь в редакции, оплачу счета. Ну, вставай же, ты, дерьмо! Так, все еще в стельку. «Дух – это… это твое сердце, сладенькая моя, это то, что ты есть. Но, мамуся, когда ты умрешь, твой дух полетит домой к Богу? – А, тебе кто это сказал? – Не помню. – Это Джозефина тебе сказала?» Вот чертова тварь, эта приходящая няня со своей смесью вуду и католицизма. «Ты делаешь а-а, солнышко? – Не-а. – Мне кажется, у тебя кака в подгузничке». Сделать несколько звонков, отправить по почте чек по закладной. «Нет, каки в штанишках нет». Забыть женщину, которую ты теперь вспоминаешь как самую красивую женщину, которой ты ни разу не обладал. «Давай посмотрим, солнышко, ты съел слишком много яичек. – Я не делал а-а! – Думаю, ты обкакался». Глаза голубые, как почтовый ящик. Ты все еще вдрызг пьян, но я верю, что ты можешь… встать, давай вставай, тебе это по силам, я могу, я пытался, я садился, я возвращался снова в игру под названием «жизнь», и на линии снова возник Бобби:
– Портер, у меня женщина, застреленная прошлой ночью в Верхнем Вест-Сайде, в китайской прачечной. Возможно, любовник.
– Ну и что в этом интересного? – спросил я, щурясь на солнце, светившее прямо в окно.
– Убитая держала в руках свое подвенечное платье.
Я свесил ноги с постели. Год от года они становятся все безобразней, да еще эти постоянно врастающие ногти.
– Чем она занималась? – Я продолжил расспросы.
– Бухгалтер, возраст тридцать два года.
– А любовник?
– Сотрудник страхового агентства. Пятьдесят шесть лет.
– Она интересовалась мужчинами в возрасте?
– Может быть, у нее в свое время папаша свалил.
– Бобби, ты, как я понимаю, жуешь пончик.
– Ara.
– Неужели ты начал отмывать руки от типографской краски!
– А зачем? Они у меня в кофе, так что один черт.
Я вздохнул:
– Известно, где он находится?
– Нет, но его ищут.
Я встал и услышал, как под ногами захрустели обжаренные фруктовые колечки.
– Телевидение, случаем, не рыскало там прошлым вечером?
– Поздно было слишком.
– А подвенечное платье, о котором шла речь, это пикантная приправа?
– Вот именно. Я его припас специально для тебя.
– Ну что ж, может, и сгодится.
– Точно сгодится. Это же романтический флер. Ты ведь любишь романтический флер.
Одеваясь, я услышал, как внизу хлопнула дверь. Это пришла Джозефина и начала топать, стряхивая снег с ботинок. У нее был ключ от калитки в стене. «Доброе утро, как поживает мой маленький дружок? – А у меня яички. – Он только что справился с омлетом». Джозефина – необъятная черная глыба с Гаити. Мы нашли ее, когда Лайза на седьмом месяце ждала Салли, и наняли следить за чистотой нашего дома. Джозефина прибыла – громадная, почтительная и немного стесненная синей девической формой, которую ее заставили надеть. И хотя она приходила убирать дом только один день в неделю и успела побывать у нас всего пару раз, а я видел ее лишь мельком, уходя на работу, но она мгновенно составила себе мнение, что я выдохшийся и слишком старый (это притом, что ей самой под пятьдесят), чтобы заниматься уборкой домов. Во вторую субботу я сходил в магазин, купил новый пылесос и поставил его наверху, в стенном шкафу, чтобы Джозефине не приходилось таскать вверх по лестнице тяжелый «Электролюкс». Потом мы поинтересовались, сколько ей платят в бюро по найму, и оказалось, что его владелицы, пара ловких белых женщин лет тридцати с хвостиком, имевших специальное образование, забирали себе почти половину ее зарплаты: мы платили в контору десять долларов за час, из которых Джозефине доставалось пять долларов двадцать центов без налога. Выяснив это, мы позвонили в контору и сказали, что больше не нуждаемся в прислуге, потому что ребенок уже родился. Они поинтересовались, может быть, мы недовольны Джозефиной, но мы, конечно, уверили их, что ничего подобного и что она просто удивительная женщина. Потом мы наняли ее за десять долларов в час и отдавали ей деньги из рук в руки, чтобы все доставалось только ей. Она по-прежнему приходила помогать Лайзе с детьми и постепенно стала оставаться на полный день, с восьми до пяти. Пришлось пройти период привыкания, ведь Джозефина, как ни крути, была представителем островной культуры. Часто, возвращаясь домой с детской площадки, она собирала в парке растения и готовила из них на плите какие-то загадочные снадобья, понемножку подмешивая туда то одного, то другого представителя местной флоры. Большую часть этого варева она забирала с собой, чтобы потом пичкать им несчастную Ла-Тишу (ту, у которой волосатый низ), пытаясь как-то исправить ее дурное расположение духа, присущее подросткам, как «болезнь роста». Но иногда Джозефина оставляла свое зелье в нашем холодильнике в банках без опознавательных знаков, и отличить его можно было лишь по странному зеленоватому оттенку и сомнительным клокам мутного осадка. Помню, как-то ночью, как раз тем летом, когда она впервые появилась у нас в доме, я проснулся и, обуреваемый желанием выпить чего-нибудь холодненького, открыл холодильник, достал оттуда банку и залпом выпил нечто, по виду похожее на чай со льдом. Напиток легко проскользнул мне в желудок, но через десять минут мой рот наполнился слюной и вдруг возникло эксцентричное желание поесть сырого риса. В другой раз Лайза рано пришла домой и увидела, что у Томми, которому тогда было одиннадцать месяцев, голова обмотана кусками мокрой оберточной бумаги. На мгновение Лайза окаменела, но поскольку Томми выглядел совершенно здоровым, она только как бы мимоходом спросила, в чем дело, и Джозефина объяснила, что на Томми напала икота и она применила свой метод лечения.