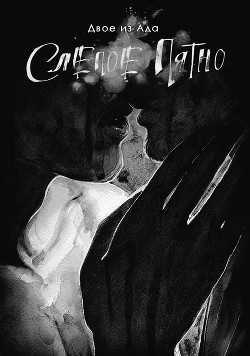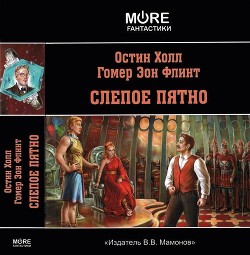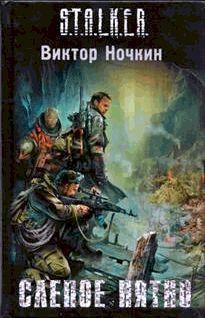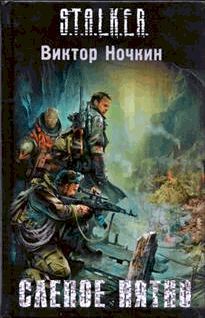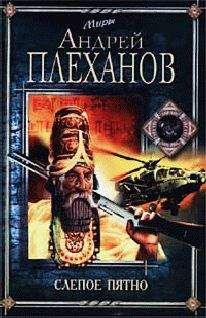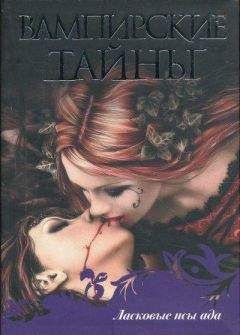— Положительно. Я могу тебе предложить кофе, если ты его сама возьмешь с полки и заваришь, — кокетничала Елена. — Вон там. А чайник знаешь где.
— Это будет самый отвратительный кофе в твоей жизни, я тебе обещаю.
Лев вздохнул. Для Елены ситуация с Валентином хоть и была ударом, но, как казалось Богданову, куда меньшим и каким-то логичным, естественным, словно ожидаемым. Она стремилась сбежать и в мыслях давно отказалась от всего, над чем они совместно трудились.
На какое-то время за стеной повисло молчание, разрываемое только рабочим шуршанием, кипением воды и звоном посуды. Настя напевала что-то себе под нос — и ее голос, как и мотив, в очередной раз уничтожал в воображении темный и почти бесполый облик. Мелодия отдавала чем-то грустно-девичьим и диснеевским. Елена засмеялась:
— Серьезно? Настуся, я так понимаю, ты пришла разрушать рабочую атмосферу и строгий коммунистический строй? Это не по-товарищески.
— При коммунистическом строе было написано множество песен, Ленин, которые обязаны укреплять, а не разрушать рабочую атмосферу. Под хорошую музыку дело идет ровно, нервничаешь меньше… Да и у нас кофе-брейк! Нет, что ли? — на стол со стуком опустились две полные кружки. — Или тебе песня такая не нравится?
— Нравится, но дело в том, что настраивает она не на рабочий лад.
— А на что она настраивает тебя? — неожиданно любопытно переспросила Настя. Богданова молчала какое-то время. Лев подумал, что строит глазки.
— На девушку. На что еще может настраивать песенка из «Мулан»? Кто эта девушка? Кто ты, Настуся?
— Ну, эта девушка больше на тебя похожа. Правда? — Настя хихикнула. — А я Настуся. По паспорту — Есаян Анастасия Артуровна. И очень рада тому, что это никому, кроме моей родни, ничего не говорит, в отличие от позывных в сети.
— Серьезная какая, гляньте-ка. А у меня даже паспорт и тот ненастоящий, — усмехнулась Елена.
— Ну, считай, что настоящий. Это же вообще никакого значения не имеет, мы с тобой обе как будто бы без семьи и из жизни выпали… Но мы-то знаем, что это не так. Нам просто удобно, чтобы об этом никто не задумывался.
Тут Настя примолкла на время. В воздухе дребезжала какая-то напряженная нота — и Лев точно знал, что это не чайная ложка, скребущая стенки чашки. Хотя и она зудела, раздражая уши, как белый шум на месте неозвученного перехода между одной темой разговора и другой.
— Ты же знала, что все так случится. Может, не на этой свадьбе, не с тобой, но… Я не знаю. Я все еще перевариваю то, что ты мне рассказывала. Ты ведь знала, что он появится, давно знала. Почему не предупредила раньше? Почему вообще не отменила эту сраную свадьбу?
— Я бы могла, — выдохнула Елена. — Но не думаю, что стоило. Возможно, это наши последние счастливые мгновения были. Портить их борьбой, безысходностью мне не хотелось. Я уже один раз все разрушила, Настя… У него впервые выстроилось… так… Может, это первый и последний раз. Я не хотела быть палачом чувства. Мне, знаешь, уже страшно передвигать что-то в этой странной композиции, ибо каждый раз я нарушаю баланс, и кто-то страдает…
— Да ты послушай себя только… Как борьба и безысходность могут соседствовать? Антон, Лев — между собой они сами решат, что делать. Может быть, то, что они узнали счастье вдвоем, в какой-то момент и решит все. Я вообще не уверена, что ты могла на это как-то повлиять тогда, когда сама о них узнала… Но я ведь не о них говорю сейчас даже. О тебе. Та свадьба — это не счастливое мгновение. Не для тебя. И для них — тоже нет. Ты просто… — Настя задохнулась и раздраженно звякнула ложкой. — Я не могу смотреть, когда кто-то опускает руки, Ленин. Или когда берет на себя вину за то, с чем нельзя справиться. Тогда ты была маленькой девочкой. Ты не виновата, ты и так сделала все, что могла. Но это было тогда. А сейчас — это сейчас. Вы оба можете бороться и боретесь, и поэтому мы все здесь. Нельзя посадить за решетку прошлое, но рано или поздно этот мудак оступится. Ты должна это понимать сама. Не давать ему залезать в голову ни себе, ни Льву, так? Это сложно, когда ты несвободна внутри. А ты ведь не была свободна…
— Ты его плохо знаешь, — невесело засмеялась Елена. — Сложно бороться с тем, у кого нет морали. Он играет грязно и кроваво, Настя. И я боюсь, что мы в конце этой борьбы положим кого-нибудь в деревянный ящик. И хорошо, если это будет тот, кто действительно виноват. Я… Лев, может. Сам Валентин… А если это будет Антон? Рома? Ты? Те, кто ни при чем. Поэтому борьба соседствует с безысходностью. Не я опустила руки, я приняла решение. Была уверена, что смертельный удар придется по мне, как по самому дорогому человеку, понимаешь? Нет смысла отменять свадьбу, если ты…
Елена прервалась. Лев истерично перебирал каждое сказанное ею слово и никак не мог привязать их к тому, что знал. О чем она говорила? Об исчезновении матери? Как она могла быть виновата в том, чего не смогла бы изменить? Богданов не понимал того, что слышал.
— Если ты — что? — выдохнула Настя тише. — Ленин, ему не было смысла трогать тебя. Из меня такой себе психолог, если честно, но я помогала с похожими делами, и спустя эти годы у меня почти перестал взрываться мозг, чтобы судить об этом так просто… Поверь мне, ты, скорее всего, последняя, кому он желает смерти. У этого урода очень узнаваемый почерк. И то, что случилось с тобой, случилось, вероятно, потому, что ты имела наглость ему мешать. Ты очень храбрая. И ты правда делала все, что могла. Ты многим пожертвовала. Настолько многим, что в какой-то момент перестала разделять причину и смысл своих жертв. Сейчас тебе нельзя подставлять себя под удар. Больше нельзя.
Богданов испугался окончательно. Кто и кому желал смерти? Почему? Как так вышло, что он ничего не знал об этом? О каких жертвах говорила Настя? Елена, конечно, сделала для Льва много. Но он и подумать не мог, что все это было жертвой, чем-то насильно отнятым у нее, а не добровольным вкладом. А оказалось, что нет.
— Ты не все знаешь, — выдохнула Елена. — Без Льва и компании моя жизнь теряет смысл. Теряла… Тогда. А теперь, Настуся, расклад круто поменялся. А я смотрю и думаю, у меня ли одной.
6-7.05. Второй удар
Лев не помнил, как наступили выходные. Не осознавал, что делал в ночь с пятницы на субботу. На столе, освещенном утренними лучами солнца, покоилась таблетница со снотворным, которое Богданов, кажется, принимал уже всю свою жизнь. Но последние дни прервал курс из-за алкоголя, пытаясь расслабить натянутые канаты нервов. «Когда все это началось?» — думал Лев, вертя между пальцами металлическую коробочку, и не мог вспомнить. Концы канули в темную воду детских воспоминаний, подстершихся за годы от нехватки ностальгии в крови. Не по чему было тосковать в серые времена, пропитанные горечью и страхом от потери родителя, от обретения нового, от страстного желания избежать хлестких обстоятельств. Богданов все крутил в голове слова сестры. Не хотелось верить в то, что все ее хорошее отношение к нему было гнетущим и болезненным кострищем, в которое Елена скидывала собственную жизнь.
— Ничего не понимаю, — покачал головой Лев. В тишине кабинета монотонно стучали в висок часы. Мозг зудел от желания позвонить ублюдку, решившему разрушить ему жизнь, и спросить напрямую о причинах и следствиях. Богданов достал мобильный телефон и ткнул во входящих звонках в знакомый номер.
«Левушка! — скоро прозвучал восторженный голос Валентина в трубке. Льву это обращение было противно до скрежета в зубах. — Спесь, я гляжу, уже сбилась?»
— Что ты хочешь? — коротко спросил Богданов.
«Что, прям так сразу? Ни тебе „привет“, ни „пока“, ни „соскучился“? Ты, конечно, невероятно неблагодарный сукин сын».
— Что ты хочешь, Валентин? — с нажимом повторил Лев и стиснул трубку в руке.
«Твою фирму. Я сейчас являюсь одним из директоров компании, которая занимается покупкой и последующей выгодной реализацией юридических объектов. В общем, мы берем неуспешный бизнес, делаем его успешным, потом продаем втридорога».