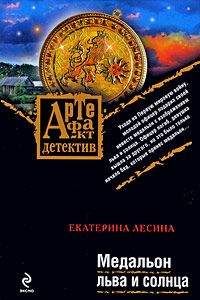– И что ж это ты, Берта, такая стеснительная, а? – Константин Андреевич засмеялся, и Елена Павловна тоже, и я улыбнулась, хотя непонятно, чему.
– Константин Андреевич, Берточка, специально к нам приехал, чтобы с тобой познакомиться. – Елена Павловна поправила прическу и очки на носу. – Из самой Москвы…
– Не пугайте ребенка, а то чуть что – сразу Москва и Москва… а москвичи – тоже люди, – он опять засмеялся.
У него тощая шея, обрамленная широким воротником, и руки тоже тощие, с длинными светлыми волосами, которые прилипли к коже, точь-в-точь как нитки к халату. На запястье болтаются часы, не «Луч», другие – с массивным циферблатом, на котором поблескивают буквы.
– Часы нравятся? – Константин Андреевич подмигнул. – Франция… был на фестивале кино, вот и…
Елена Павловна бледнеет, прямо в синеву, и крашеные, уложенные высокой башней волосы будто бы становятся рыжее. Или рыжее – неправильно говорить? Но они ведь становятся.
– Берточка, Константин Андреевич специально к тебе ехал, чтобы… чтобы пригласить в кино, – она выдыхает это с таким благоговейным восторгом, что терпкий аромат «Красной Москвы» гаснет, отступая перед великолепием этих слов.
– Пока всего лишь на пробы. – Константин Андреевич потер подбородок и улыбнулся. – Но, думаю, шансы неплохи… яркий типаж, яркий.
Колючий цепкий взгляд и страх между лопатками. Не люблю бояться. А кино… кино – это почти такое же чудо, как моя страна. В кино тоже все счастливы, если не сразу, то потом непременно.
Пробы я прошла не помню как, в полудреме, приправленной удивлением и немного страхом, что все это чудо, творящееся вокруг, вот-вот закончится.
– Калягина, где ты бегаешь? На грим, давай-давай, скоренько. Ноженьками шевелим, шевелим.
Настя умудряется одновременно и в спину подталкивать, и за локоть тянуть. Я послушно иду, потому что Насте возражать нельзя. Да и бесполезно.
– Галочка, вот, держи нашу зайку. Калягина, садись давай, и глазоньки, глазоньки закрываем.
Закрываю. У Насти резкий голос, нельзя сказать, что неприятный, подходящий этому странному месту, полному людей, звуков, запахов и проводов. Здесь принято кричать, и за дело, и просто так, чтобы услышали. И суетиться принято. И спешить, и поторапливать, и делать тысячу вещей одновременно.
Лицо щекочет пуховка, пудра пахнет детским тальком и почему-то свеклой, хочется чихнуть, но Галина одергивает:
– Смирно сиди.
Сижу. Не люблю грим, лицо перерисовывают, и все чудится, что того и гляди совсем перерисуют. То есть навсегда.
– Ты представляешь, Костик с Дашкой вконец разосрались. – В воздухе запахло сигаретами, это Настя, пользуясь минутной передышкой, закурила. Жаль, что глаза открывать нельзя, мне нравится смотреть, как из колечка губ – розовая помада «Шанель», подарок поклонника – выбирается дым. Настя говорит, что курить модно и в Европе многие женщины курят, а Константин Андреевич называет ее дурой и требует соблюдать правила пожарной безопасности.
– Ну неужели? – Холодные пальцы Галины касаются носа, потом век, массируют, успокаивая.
– Ага, мне Лялька говорила, что с утра такой скандал был – просто мрак!
Я представляю, как Настя закатывает глаза, завитые полукружьями ресницы почти касаются бровей, а подбородок, наоборот, опускается вниз, и рот приоткрывается, как будто Настя – кукла и сейчас скажет: «Мама».
– Она всю посуду перебила и пообещала анонимку накатать, – говорит Настя. – Галь, ну ты чего делаешь?
– А чего я делаю?
– Ну сама посмотри! Тоньше губы сделай, так, чтоб аккуратные, а то прям жабий рот… так вот, я и говорю, что Дашка на Костика накатать пообещала, а он ее – с площадки вытурить.
– И вытурит, – спокойно заметила Галина, салфеткой стирая помаду с губ. – Кто она против Костика? Актриса одного дня…
Это они про Дарью Скирцеву говорят. Я ее знаю, точнее, видела однажды. Красивая. Модная. Говорят, что талантливая. Правда, Настя как-то упомянула, что настоящий талант тут один – Костик, а остальные так, чтоб не скучно в одиночестве было.
– Вот увидишь, доснимаем и все, будет Дашке свобода на все четыре стороны… – Руки Галины меняют мое лицо, я не вижу как, но ощущаю эти перемены, будто бы черты переплавляют, делая то уже, то шире, то четче, то, наоборот, размытыми. Галина тоже талантливая, только это очень злой талант – превращать одних людей в других. Но в кино иначе никак.
– Вверх посмотри, – приказывает она. Смотрю на висящий под потолком шар, облепленный то ли фольгой, то ли битым стеклом. Зачем он там? Галина рисует глаза, Настя маячит рядом раздраженной тенью. Молчит.
– А Костик себе новую приму сыщет… теперь влево гляди. У него это быстро, ну да… думать надо было, он же не пацан, чтоб тарелками швыряться. Народный, как-никак, заслуженный…
– Кобель он, – заключает Настя и, дернув меня за волосы, весело говорит: – Не слушай нас, Баська, мы ж так, языки почесать… Если уж чего чесать, то язык – самый безопасный вариант.
– Не мешай, – одергивает Галина. – А ты, Берта, слушай, мотай на ус, разбирайся, куда попала.
Настя смеется, хрипловато и обидно.
– Работать? А чего, работаю, ну… – Дед поправил бандану, которая наползла на самые брови. – Плотят нормально.
Напрямую в «Колдовские сны» Венька решил не лезть, чтоб, по его словам, «не спугнуть». Кого именно он опасался там спугнуть, Семену осталось непонятным, однако спорить он не привык. Да и то верно, что сначала неплохо было б разобраться с тем, куда они вообще лезут, а Федор Дмитрич мало того, что из местных, так и в пансионате работает, и с Калягиной знаком был неплохо.
Дом его стоял на краю села, и буквально за забором – крепким, серьезным, составленным из ровненьких, одна к одной штакетин, – берег уходил резко вниз, скатываясь в блекло-синюю речушку. Второй ее берег, пологий, вылизанный водой до яркой желтизны, упирался в светлую стену соснового леса, за которым, насколько Семен знал, и находился пансионат «Колдовские сны».
Федор Дмитрич, против опасений, был дома, поскольку работал по заведенному в «Колдовских снах» графику – десять дней рабочих, два выходных.
– А че, сначала-то, конечно, напряжно было, у всех людей суббота как суббота, про воскресенье молчу уже, а ты там горбатишься. – Федор Дмитрич, разложивши на низких козлах длинный, штопором завитой сук, охаживал его рубанком, тот в умелых руках по дереву скользил легко, снимая тонкую сливочно-желтую, будто с масла, стружку. Глядеть на это было приятно, как и на ухоженный, аккуратный двор, в котором даже собачья будка была добротной, украшенной резным петушком да деревянными ставенками. – А потом ничего, попривык, даж хорошо.
И вправду хорошо, солнышко щекотало обожженную шею, но не зло, а ласково, дерево вкусно пахло деревом, рубанок – металлом, а козлы отчего-то олифой.
– Раньше-то шли, то выпить за компанью, то денег дать, то бутылку… бедовый народишко, ничего-то у них нету, ничего-то им не надо. Стакашку опрокинуть да побузить, в том годе у Марчихи хлев спалили, в прошлым месяце Степанычу, который инвалид, руку сломали…
Федор Дмитрич, вытащив пачку «Аполлона», задымил.
– Так вот я-то и сам по прежнему времени не брезговал, а чего, когда заняться-то нечем, а вот пошел в пансионату работать, так там строго, с порога прям сказали, что если запах чуть почуют, то все, ищи, Дмитрич, новую работу. Ну а где ж ее найти-то?
Из будки, гремя цепью, выполз пес, глянул мутными глазами на Степана, зевнул, ощеривши беззубую пасть, и растянулся на травке.
– Он старый, я старый, никому-то и не нужный, – хозяин вздохнул. – А так все при людях, при деле. Вона, фиговину строгаю, Валентина просила скульптуру изобразить.
– Зачем?
– А так, любительница она всяких там финтифлей, – отмахнулся Федор Дмитрич. – А ты чего пришел? Из-за Людки, да? Допрыгалась… от бедовая девка! Мать-то ее, покойница, тихою была. Наши-то бабы языками чесали, что она от Сарки ведьмою заделалась, только глупство все это. Какая ж с нее ведьма? Сарка-то другое дело, ох и стервозная бабища, зубастая, такой слово поперек не скажешь, а если и скажешь, то все одно по-ейному выйдет.
Темные завитки дыма похожи на стружку, только не вниз падают, а вверх тянутся.
– Но вот чтоб злая, то не скажу. Берту-то она приютила. Та-то приперлася сюда одна, с дитем на руках, ничего не умеючи, городская. Помню, что моя-то супруга, покойница, с Нинкою, соседкою, в подружках ходила, так они все сидели и рядили, сколько-то городская тута протянет, когда назад побежит-то, а старуха Берту к себе забрала. Оно, может, и ей облегченье-то было, все не одной помирать, в одиночку-то тяжко, правда, Кудлач?