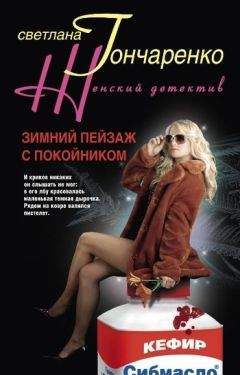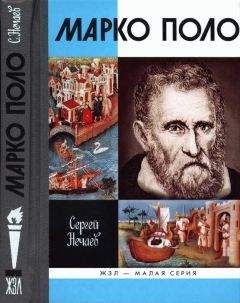Стас задумчиво шмыгнул носом:
– А может, он просто вздремнул на койке? Покрывало только слегка примято. Сморил нашего бизнесмена сон, и тут – бац! – прилетает пуля в лоб. Только вот кто стрелял?
– Может, Еськов-джуниор? – предположил Рюхин. – Наследник все-таки. Что вы, Николай Алексеевич, про мальчика скажете?
– Его я еще реже встречал, чем папашу, – пожал плечами Самоваров. – Еськов-старший был личностью яркой, заметной, а вот сын его, по-моему, – самый стандартный мажор. Здоровый, румяный, нарядный, без проблем. Баловали его, как принято в этом кругу, – не больше и не меньше.
– А с отцом он ладил? – спросил Стас.
– Вполне. Отец вроде бы сына любил, не притеснял. Парень очень среднего интеллекта и темперамента. Он немного, кажется, маминым нравом задавлен – так не мама ведь убита, а отец.
– Ладно, пойдем глянем на эту серость, – пригласил Рюхина Стас. – У парня комнаты наверху. Даже если он чист, мог что-то видеть или слышать. Либо его приятель, либо девица. Колян, будь другом, не уезжай пока! Все-таки ты тут терся, работал, на здешних людей насмотрелся. Может, родим с тобой еще пару версий.
«Какие версии? – вздохнул про себя Самоваров. – На Еськовых я и не глядел, хотел одного: работу закончить. До утра бы возился, если б Алявдин с Тошиком толклись рядом, мешали. Спят сейчас оба сном праведников! Еще бы – нет у них друзей-сыскарей, и до лампочки им, кто именно прикончил нашего работодателя. А в самом деле, кто?»
Самоваров перебрал в уме всех, кто оказался сегодня в доме Еськовых. Самые обычные люди, на злодеев не похожи… Но Стас прав: был такой старый фильм с убийством во время снегопада. Как он назывался? Там еще старушка всех перебила…
Да, если б дело было в заправском детективе, то у всех, кто собрался сегодня под этой крышей, нашелся бы мотив для убийства. Пусть и притянутый за уши – такой тоже годится, чтоб читателя запутать. Например, Алявдин мог бы не сойтись с хозяином взглядами на современное искусство. Почему нет? Старый живописец не раз ехидно критиковал любимые Еськовым гигантские пейзажи и салонный портрет с неправильными пальцами. Обидевшись, что за скверный портрет уплачено втрое больше, чем за его помпейцев, принципиальный Алявдин мог бы…
Чушь собачья! Не мог. Для книжки или фильма сошло бы, но в жизни так не бывает. В жизни могут убить за полтора рубля в темном переулке, а вот на вилле за художественные принципы нет.
Или взять Серегу Иванова, охранника широкого профиля. Этот детина невероятно могуч. Не только из пистолета застрелить, но и задавить любого двумя пальцами в состоянии. Но зачем ему это делать? Он добр, как голубь. В нем могло бы, конечно, ни с того ни с сего взыграть классовое чувство. Или он мог поддержать художественные принципы глубоко им уважаемого Алявдина. Или, как принято теперь в кино, он нездоров – армейская служба ранила его тонкую психику. Вне запный припадок немотивированной агрессии, минутное помрачение и… Тоже чушь!
Самоваров понял, что его веки слипаются. Он направился в диванную. Стас и следователь Рюхин оттуда уже ушли, и на любой тахте можно спокойно вздремнуть. Никто не потревожит: грозная хозяйка еще не привыкла считать эту мужскую комнату своей вотчиной, где даже на табуретки прислуга и посторонние, прежде чем сесть, должны подкладывать специальные рогожи, чтоб не испортить мебель плебейскими задами.
23 декабря. 23.50. Суржево. Дом Еськовых. Мансарда.
– Значит, ты поднялся к себе? И просто так сидел на кровати? – снова и снова спрашивал следователь.
– Сидел, – повторил Еськов-младший.
Этот высокий розоволицый парень ростом и статью пошел в отца, а красотой и черными бровями в маму. Загляденье, а не наследник, если б не унылая неподвижность голубых глаз. Он казался – да и был, наверное, – простоватым и вялым. Такие дети часто бывают у ярких волевых родителей. Друзья звали его Санькой и не слишком уважали, зато его щедростью пользовались охотно.
На все вопросы Санька отвечал спокойно. Без всякой спеси он позволил говорить ему «ты». Галина Павловна до прибытия адвоката велела сыну молчать как рыба, но он говорил.
Обитал Санька на втором этаже, в стороне от родительской спальни, от будуара в завитушках и отцовского кабинета, похожего на погреб в Риге. Его владения звались почему-то мансардой. Была тут большая комната, комнатка поменьше, собственная ванная и еще что-то вроде застекленного скворечника – три ступеньки вверх и сплошные окна на три стороны света. Там помещался музыкальный центр и маленькая скамеечка.
Мебель у Саньки была попроще, чем у родителей, без позолоты, но от того же итальянского дизайнера, стало быть, рассчитана на колосса. Со стены Санькиной спальни плотоядно и многозубо улыбалось черное лицо известного рэпера. Постер был громаднейший, от пола до потолка, и ночью мог не на шутку напугать нервного и впечатлительного юношу.
Но нервным Санька явно не был. Рюхин ему не верил. Зато бывалый Стас легко представил себе, как младший Еськов сидит неподвижно и без всяких мыслей в течение получаса, а то и более. Бывают такие терпеливые ребята! К тому же весь вечер музыкальный центр непрерывно бормотал что-то по-английски. Это значит, что Санька не просто сидел – он слушал музыку. Или не слушал? Скорее всего, он так привык к этому бормотанью, что оно казалось ему тишиной и было неощутимо, как азот в воздухе.
– А до этого что делал? – продолжил спрашивать Рюхин.
– Во дворе был, пиротехнику пускал, – ответил Санька.
– Зачем?
Этот вопрос очень озадачил Еськова-младшего.
Его взгляд стал еще неподвижнее. Это, наверное, отражало скорость хода его мысли. Он шевельнул одной из соболиных бровей и сказал:
– Мне нравится. Смотреть люблю. Прикольно.
Стас понял, что смотреть – на огненные ли букеты в небе или просто на стену – любимое и привычное занятие Саньки.
Рюхин наступал:
– Когда ты тут сидел, ты слышал выстрел в спальне?
Санька надолго замер с приоткрытым ртом: он думал.
– Не знаю, – наконец ответил он. – Я музыку слушал и не думал про выстрелы. И во дворе же Тошка Супрун остался, дизайнер, «Ночь в Крыму» запускать. Может, и стреляли, но я думал, это «Ночь».
– Когда ты поднимался наверх, никого не встретил?
– Никого. То есть Арька как раз спускался мне навстречу – он пустой диск у меня брал для этих двоих, с телевидения. Вот как раз с диском он и шел.
– Тебе не показалось, что кто-то был в большой спальне? Что там какой-то шум, голоса, возможно ссора?
– Не-а, – слегка мотнул головой Санька. – Там, кажется, кто-то был, но не разговаривал – вроде как просто ходил. Я думал, это Зина прибирается.
Тетку, пусть и седьмой воды на киселе, Саньку приучили звать просто по имени. Она прислуга!
– А твои друзья в это время где находились? Ты их видел?
– Да тут они были! Или в гардеробной, или в комнате рядом.
– И чем они занимались?
– Как чем? Трахались.
Рюхин состроил недоверчивую гримасу:
– Ты уверен?
– А чего им еще делать?
Следователь покосился на Железного Стаса.
Тот тихонько вращался в кожаном кресле у Санькиного компьютера. Он наблюдал за беседой. Суровое лицо майора было спокойно, однако левый его глаз, всегда прищуренный, всевидящий, подмигнул Рюхину: давай, мол, дуй дальше!
Вздохнув, следователь продолжил:
– Хорошо, ты сидел здесь. А потом что случилось?
– Потом Зина заорала, – спокойно сообщил Санька. – Я выскочил, а она уже на полу лежит. Я сам стал орать, потому что заглянул в спальню и увидел…
– Потом?
– Потом Дэн с Алиской подтянулись. Они позже подошли – им же одеться надо было. Эти тоже орать начали. И другие прибежали, орали. Дальше я не помню…
Неуловимая, не тронувшая ни одной черты тень пробежала по ровному Санькиному лицу. Что она означала – ужас, печаль, сожаление?
Чуткий Рюхин углядел эту тень. Он решил, что пришло время как следует зацепить тугого на слово собеседника, и задал убойный вопрос:
– Когда ты видел своего отца живым последний раз?
Ответ последовал сразу:
– Позавчера.
Рюхин опешил:
– Как так? Ты хочешь сказать, что сегодня вы совсем не виделись? Ни разу?
– Не-а. Не пришлось.
– Я понимаю, дом у вас большой, но чтоб вот так ни разу не встретиться… Не может быть!
– Может. Я, как приехал, с ребятами сидел, мы музыку слушали. Потом пошел во двор с пиротехникой. Потом тут сидел. Потом Зина заорала.
Картина получалась странно убедительная.
Вдруг с вертящегося кресла подал голос майор Новиков:
– Что, Александр, жалко отца-то?
И на этот раз младший Еськов ответил без промедления. Наверное, он всегда был послушным ребенком, и его приучили не трепать мамины нервы заминками и капризами.
– Отца? Жалко, – сказал он. – Очень.
Его губы вдруг дернулись и сложились в неуместную улыбку. Из глаз покатились мелкие слезы.
– Держись, – сказал Стас. – И начинай соображать хоть чуть-чуть, ладно?