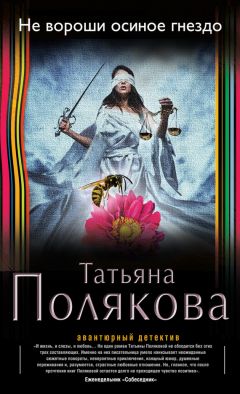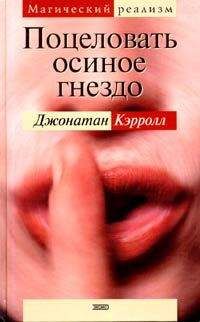Мы остались с глазу на глаз.
И вот тут, кажется, начался настоящий разговор.
Гюберт усадил меня против себя и спросил:
- Ваша настоящая фамилия?
- Хомяков.
- Расскажите подробно, как вы перешли линию фронта?
Я подробно рассказал.
- Что просил передать Саврасов?
Я передал информацию, полученную от Саврасова (предварительно прошедшую цензуру полковника Решетова), и добавил, что Саврасов просил передать привет от Виталия Лазаревича.
- От какого Виталия Лазаревича?
Хотелось сказать, что от того, которого Гюберт знает лучше меня, но ответил, конечно, другое:
- Это мне неизвестно.
- Почему Саврасов решил послать ко мне вас? - полюбопытствовал Гюберт.
- Меня послал не Саврасов, а Брызгалов.
- Слушаю, говорите, - потребовал Гюберт.
Я объяснил, что Брызгалов не мог вернуться обратно по обстоятельствам, от него не зависящим. Он приземлился благополучно, в подходящем, безлюдном месте спрятал парашют и удачно выбрался из зоны приземления. Он шел уже по маршруту, но через три дня его постигло несчастье. Стремясь побыстрее добраться до Урала, где жил и работал Саврасов, Брызгалов на станции Лебедянь пристроился на товарный поезд. Этой же ночью около одного из разъездов поезд подвергся налету немецких бомбардировщиков. В вагон, на тормозной площадке которого ехал Брызгалов, угодила бомба. Брызгалов получил тяжелое ранение и контузию: ему перебило осколком ногу повыше колена; вместе с другими его подобрали и увезли в Москву, в больницу.
Гюберт потер переносицу, подумал и спросил:
- Долго ему придется лежать?
- Пожалуй, да.
- Документы его уцелели?
- И документы и деньги. Деньги были в крупных купюрах, занимали мало места, и его мешок не привлек к себе вынимания.
Я хотел добавить еще что-то, но Гюберт перебил меня:
- Откуда вам известны все эти подробности?
- От самого Брызгалова.
- Но вы же заявили при первой беседе, что не знаете его!
Я сообразил, что Гюберт пытается запутать меня. Я отлично помнил каждое сказанное слово. Поэтому я разрешил себе усмехнуться и спокойно проговорил:
- Вы ослышались. Я не мог так заявить. Ведь меня прислал Брызгалов.
- Допустим, - заметил Гюберт (к чему это относилось: к тому, что он ослышался или что Брызгалова я знаю, - предоставлялось судить мне). - Как вы его узнали?
Вот тут мне и пришлось во всех подробностях изложить подготовленную нами версию. Смысл ее сводился к тому, что Брызгалов, еще до войны знавший меня по некоторым "общим делам", вызвал меня из больницы через смазливую санитарку и попросил съездить к Саврасову. Он вручил мне часть фотокарточки, передал пароль и пообещал по возвращении пять тысяч рублей. Предложение показалось мне соблазнительным, я отправился на Урал, встретился с Саврасовым, получил от него информацию и вернулся. Тогда Брызгалов предложил мне перейти линию фронта, что отвечало моим тайным желаниям.
- И вы согласились? - спросил Гюберт прищурившись.
- С Брызгаловым шутки плохи, - сказал я. - И потом... мне угрожала мобилизация в армию.
- Он дал вам деньги?
- Нет, - сердито ответил я. - Он послал меня к вам и сказал, что со мною расплатитесь вы.
- Но ведь вы знали, что у него есть деньги?
- Он сказал, что должен передать их Саврасову. И он поклялся, что вы заплатите втрое больше, если я доберусь до вас. Он даже хотел дать записку, но потом передумал: опасно...
Гюберт помолчал, кривя рот в усмешке и разглядывая меня.
- Он мне соврал? - спросил я.
Гюберт встал, вышел из-за стола, пересек неслышно комнату и остановился у окна. Он о чем-то думал.
Я ясно оценивал положение свое и Гюберта. Я был в более выгодном. Чтобы обстоятельно проверить меня, требовалось долгое время. Очень долгое. А временем в условиях войны Гюберт не располагал.
Он стоял в молчании несколько долгих минут, потом прошел на свое место и задал новые вопросы: кто я, чем занимаюсь, где служу, как оправдаю свое отсутствие на службе, когда вернусь домой.
Я рассказал о себе все, что требовалось, и объяснил, как думаю оправдать свое отсутствие. Я подчеркнул, что эта версия разработана вместе с Брызгаловым и сводится к следующему. По долгу службы мне часто приходится выезжать на дистанции. Недавно мне поручили выехать на один из прифронтовых железнодорожных узлов для работы в бригаде специалистов по устранению непорядков, мешающих продвижению грузов к фронту. Я поехал и исчез. А потом, когда вернусь, расскажу на службе, что немцы предприняли на этом участке наступательные операции, и я оказался у них в тылу. Во избежание плена, пользуясь теплой погодой, я вынужден был некоторое время скрываться в лесу вместе с другими окруженцами. Мы дождались удобного момента и перешли на свою сторону. Никто сейчас не в состоянии проверить моих показаний, и мне должны поверить на слово.
Гюберт выслушал меня не прерывая, вынул из стола свернутую карту, подал мне и сказал:
- Покажите этот железнодорожный узел.
Я развернул карту и, увидев немецкие надписи, сказал:
- Мне по ней трудно ориентироваться. Нет ли у вас русской?
Конечно, у него оказалась и русская. Он достал ее, и я показал ему железнодорожный узел, действительно оставленный недавно нашими войсками.
Гюберт угостил меня сигаретой. Сигарета была крепкой. Легкий туман заволок мой мозг; можно было подумать, что она чем-то начинена.
- А как у вас относятся к людям, которые невольно, вот так, как вы, попадают на неприятельскую сторону, а потом спустя некоторое время возвращаются? - с оттенком иронии спросил Гюберт.
Беседа, продолжавшаяся уже второй час, начинала приобретать острый характер.
- К сожалению, косо смотрят, - ответил я. - В старые времена это считалось в некотором роде геройством. К таким людям относились, как и к попавшим против воли в плен, довольно снисходительно. Сейчас же другое дело.
- На вашей служебной карьере это не отразится?
- Не думаю. Теперь много окруженцев. Я вернусь в полном порядке, сохранив документы. Кроме того, что мне до карьеры? Я ведь по чужому паспорту, долго это продолжаться не может. Плевал я на их карьеру!
- А Саврасов сидит прочно?
- Как я его понял, довольно прочно.
Гюберт постучал по столу пальцами с выхоленными отполированными ногтями и предложил новый вопрос, к которому я был подготовлен.
- А какие у вас разногласия с Советской властью? В чем вы не поладили? Почему вы решили вдруг стать нашим другом? - спросил он.
Я помедлил с ответом. Потом, раздумывая, сказал:
- Да никаких особенных разногласий не было...
- То есть?
- Так, не было. Мне просто нет до них дела. Это политика. А я всегда держался дальше от политики. Самое главное - деньги. Я их старался делать. При Советской власти дельцом трудно быть. А мне нравится быть деловым человеком, знаете ли. Крупные барыши, вообще - частная инициатива... Пришлось пуститься в рискованные операции, привлечь брызгаловскую публику...
- Охотились за железнодорожными грузами? - усмехнулся Гюберт.
Я промолчал.
- Так... хорошо, - сказал Гюберт и решительно поднялся.
Я тоже встал и понял, что беседа окончена. Да и пора уже было.
- Вам придется все, что вы мне сказали, - предупредил он, - изложить письменно.
Я кивнул.
Гюберт снял трубку телефона и потребовал к себе обер-лейтенанта Эриха Шнабеля. Положив трубку, он сказал:
- До города недалеко, с километр, но я поселю вас здесь.
- Как вам угодно, - заметил я.
- Так будет и вам и мне спокойнее. Но со временем я разрешу вам бывать в городе. Это совсем невредно.
- Хорошо, - согласился я.
- Вы бывали в этом городе?
- Да, раза два-три, но очень давно.
- Примерно?
- Лет десять назад.
- Тогда это не страшно.
Вошел обер-лейтенант и вытянулся перед Гюбертом. Гюберт приказал ему поместить меня в отдельную комнату, зачислить на довольствие, обеспечить бумагой, ручкой, чернилами, выдать несколько пачек сигарет и тут же очень спокойно, не меняя выражения лица, добавил по-немецки:
- Повесить его. Сегодня же ночью. Я ему ни в чем не верю.
- Яволль, герр гауптман!10 - ответил обер-лейтенант.
Призвав на помощь всю свою волю, я поклонился Гюберту и, повернувшись, пошел к выходу. Ноги мои двигались автоматически, независимо от желания и воли.
"Повесить! Сегодня же ночью повесить!.." Удар был неожиданный и страшный. И это после того, как разговор принял вполне дружелюбный характер.
Мы вышли, пересекли двор и оказались в столовой, где я уже завтракал. Мне подали обед, но я не хотел есть. На несколько минут я поддался настроению, вызванному безвыходностью своего положения. Поддался внутренне. Внешне я, кажется, "не терял вида". А это - главное. Натренированные нервы не выдали. Я беру себя в руки. Ведь я "ничего не понял". Это - основное правило моего поведения здесь. Все должно выглядеть так, будто я действительно ничего не понял, не подозреваю. Я сделал несколько физических упражнений, чтобы привести себя в норму, прошелся вокруг стола, пытаясь восстановить нормальное дыхание. Мой взгляд упал на обер-лейтенанта. Он сидел в кресле, откинувшись назад, и пристально смотрел на меня. Признаюсь, что, погруженный в свои переживания, я на несколько минут совершенно забыл о существовании этого молодчика. Мне казалось, что я один в комнате, тем более, что Шнабель сидел неподвижно. И тут молнией пронзила меня мысль, от которой мне снова стало жарко. Зачем он здесь? Почему он так испытующе смотрит на меня? И тут же создание дает ответ: не потому ли, что он проверяет меня и хочет знать, понял ли я приказ Гюберта, то есть знаю ли я немецкий язык? И мгновенно, почти одновременно, другая мысль: а может быть, все это провокация, но наивная, рассчитанная на слабые нервы?