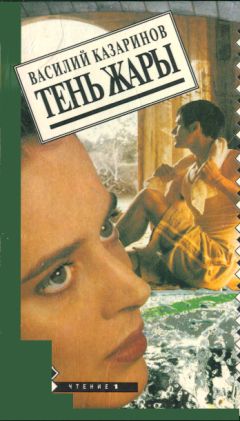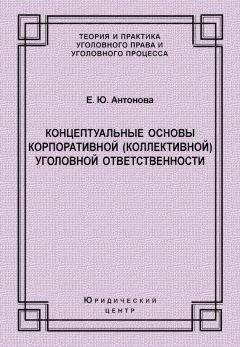– Знаешь, у меня совсем нет времени для чтения… Это… — он пустил страницы веером, — так, на сон грядущий. Попалось под руку случайно, сейчас ведь полно такой литературы*[16]. И вот мне пришла в голову одна идея…
– Да, — согласился я. — Сейчас этих триллеров полно. Иначе и быть не может.
Он налил полный стакан минеральной воды, залпом выпил, отдышался.
– Это почему?
– Такова логика нашей жизни… Ничего, кроме бое вика, человек сейчас просто ни в состоянии воспринять… — я взял со стола книжечку, тоже пустил страницы веером. — Литература всегда была для нас не столько чтивом, сколько средой обитания. Теперь эта среда из меняла русло и потекла в жанре триллера. Всем остальным жанрам придется подождать*[17].
Катерпиллер расстегнул еще одну пуговку, подергал ворот рубашки — характерный жест человека, желающего слегка освежить вспотевшую грудь; налил себе минералки, на его висках вспухли крохотные капелью пота.
– У тебя температура? — спросил я.
– С чего ты взял? — удивился он. — А-а-а, это… Да, накатывает что-то временами. Я и сам не пойму. Вдруг ни с того ни с сего — душно делается. Как в бане. У тебя такого не бывает? Топят, что ли, у нас чересчур?
Катерпиллер выдерживал паузу и покусывал длинный, тщательно отманикюренный ноготь мизинца… Надо бы ему при случае заметить, что этот ноготь на мизинце — дефект образа, моветон.
– У нас в фирме что-то не так, — сказал он и поглядел в окно; взгляд у него был отсутствующий. — Я не понимаю, что именно не на месте. Просто чувствую… Чутье у меня, как у легавой.
Про себя я отметил, что он лукавит. Если у тебя хватило денег на шикарный офис в Замоскворечье, то наверняка осталась кое-какая мелочь, чтобы нанять кэгэбэшников для дознания или десантников для охраны. Хотя с бывшими десантниками уже возникают проблемы — наверное, все запасники уже служат где-то "алексами".
– Догадываюсь, о чем ты думаешь, — Катерпиллер подкислил улыбку саркастической интонацией. — Однако в нашем случае мы имеем дело с чем-то нетривиальным.
Он встал, скинул пиджак, бросил его на стул, подошел к окну и включил кондиционер, заложил руки за спину, прошелся по кабинету. Потом присел на соседнее кресло, покосился на сборник детективных рассказиков.
– Тут в предисловии есть одна занятная мысль…
– Да ну! — удивился я. — Хорошо, что хоть одна нашлась.
– Брось! — отмахнулся Катерпиллер. — Ты знаешь, о чем я.
– Нет, не знаю.
– О путанице… О том, что мы часто не разбираем, где кончается литература, а где начинается реальная жизнь. И наоборот. Вообще это, знаешь ли, повод… — он, кажется, собирался развивать эту мысль, и мне пришлось его прервать на самом старте глубокомыслия.
– Ради бога, не надо делать умное лицо, не надо… Мысль-то неоригинальная. Я ее просто позаимствовал из какого-то текста. На этом приеме, собственно, стоит вся наша гуманитарная наука, — я поудобней устроился в кресле и закурил, не обращая внимания на сдержанное покашливание Катерпиллера, намекавшего, кажется, что курить у них не принято.
Катерпиллер бросил взгляд на стенные часы, давая понять, что нам пора переходить к делу. Замечательные у него часы — они аккуратно вписаны в стену на уровне двух человеческих ростов. Цифр нет — их заменяют четыре тонкие хромированные занозы, впившиеся в стерильно-белое поле времени; острая секундная стрелка короткими толчками насекает суточный цикл на мелкие щепки секунд. Впрочем, это его время вот так аккуратно закруглено и заковано в рабский хромированный ошейник, мое пока — свободно.
– А что касается путаницы… Так ведь мысль вторична, она вторична в кубе уже тысячу лет — с тех пор, как существует наша словесность. Наверное, первым великим мистификатором в этом смысле был сам Даниил Заточник… А черту под этими гениальными мистификациями подвел Брюсов — по-моему, он очень толково объяснил корни всех наших несуразностей.
– И в чем же эти корни?
– "Быть может, все в жизни — лишь средство для сладко певучих стихов!" Все верно. Сама по себе жизнь имеет у нас значение лишь как материал для литературы.
– Ну это когда было! — усмехнулся Катерпиллер.
– Да как сказать, как сказать… Слушай, ты чего делал, когда у нас тут разворачивался августовский путч?
По-видимому, Катерпиллер не ожидал такого поворота в разговоре; он поднял глаза в потолок — наверняка соображал, как бы поживописней соврать: мол, был на баррикадах, у костров…
– Да я не о том! — успокоил я Катерпиллера. — Тебе не кажется, что история о том, как Борис Николаевич вызволял из Фороса Михаил Сергеича — она за пределами реальности? По-моему, это просто коллизия из какого-то романа.
Дверь плавно зевнула — в кабинет всплыло существо, сошедшее к нам прямо с потных подмостков конкурса красавиц. У нее было очень эффектное и очень глупое лицо, в котором стояла эстрадная улыбка; достаточно вольный для официальной конторы туалет — вырез в кофточке, расчерченной красно-белыми штрихами, стремится за грань нормы; подбородок приподнят, поднос в руке движется по идеальной прямой, не приседая в такт восхитительно раскаченной походке. Впрочем, рост немного не вписывается в выставочный канон — до стандарта не дотягивает.
– Кофе, разумеется? — осведомился Катерпиллер деловым тоном. Он даже не взглянул в сторону выреза, зато заглянул я и оценил все, что у этой дурехи хранится за пазухой.
– За что люблю буржуазию — так вот за это. В подборе и шлифовке кадров она знает толк: постная деловая девушка в приемной — селедка в твидовой чешуе — смоделирована очень точно. Равно как и эта, приносящая кофе. Если первый персонаж напрягает, то второй замечательно расслабляет. А где же третья девушка?
– Не понял! — нахмурился Катерпиллер.
– Быть принятым — раз. Выпить — это два. Кого-нибудь употребить — это три. Таков полный комплекс желаний, которые я испытываю, приходя в гости*[18].
– С молоком? — осведомился Катерпиллер.
– С коньяком…
Он повел глаза вверх и вбок, барышня поймала его взгляд и медленно двинулась к двери. Она так восхитительно раскачивала бедрами, что я даже предположил:
наверное, этот персонаж совмещает в фирме сразу два "гостевых" желания: второе и третье.
Через минуту к нашему столу причалил и отдал швартовые очередной поднос: грузинский, три звездочки, с голубой наклейкой (сто лет не видел…), шарообразные рюмки — свою я отодвинул.
– Стакан, дорогуша, стакан…
Эстрадная улыбка треснула.
– Это как раз в русле нашей беседы. Наверное, в конторе найти граненый стакан оказалось делом непростым — она отсутствовала минут пять, но все-таки нашла. Я налил до краев.
Мне начали надоедать наши разговоры, я прикинул про себя: выпью все, что тут есть в закромах, и смотаюсь.
Я осторожно поднял стакан и донышком аккуратно прикоснулся к краю Катерпиллеровой рюмки.
– Давай выпьем. За ошибки переводчиков!
Катерпиллер скуксился, изобразив поджатой губе разочарование. Коньяк был хорош: доза в двести весомых граммов вкатилась в меня, как шар в лузу.
– Ты меня не понял… Знаешь, откуда у нас взялась мода хлестать коньяк стаканами? Она проросла как раз-таки из литературы. Строго говоря, это следствие тривиальной переводческой ошибки. Некто такой Володя Высоцкий — бывают же такие совпадения в именах! — он был переводчик, еще в начале века. Чудный парень по свидетельству современников, веселый и красивый И вот, переводя как-то Пшибышевского, он оплошно поместил в русский текст слово "стакан". В оригинале — конечно же, "рюмка". И все общество, слабо разбирая, где кончается пространство литературы и где начинается сама по себе жизнь, приохотилось лакать крепкие напитки стаканами.
– И что?
– Он чуть было не сыграл в ящик.
– Кто? — не понял Катерпиллер.
– Да этот Высоцкий. Он так увлекся собственной ошибкой… Ему нельзя было. У него были слабые лег кие.
Катерпиллер оттопырил мизинец, приподнял рюмку.
– Это как раз то, что мне нужно.
Я поплыл — качественный напиток натощак дает с себе знать быстро — и уже слабо понимал, о чем у нас речь. Закурил, залпом выпил кофе; кофе немного привел в порядок строй мыслей.
Этот строй слегка покачнуло шальное предположение — если оно окажется верным, значит, я в Катерпиллере сильно ошибался: он гораздо умней, тоньше и изысканней, чем прикидывается… Я осторожно двинулся вперед, прощупывая почву под шальным предположением.
Он явно встревожен. Стало быть… Тебе, стало быть, надо обнаружить источник этого беспокойства, так? Тот нервный центр, откуда исходит импульс?
Ей-богу, меня это начало занимать! Если он в самом деле исходит из предположения о вечной перепутанности пространства жизни и пространства литературы, то, стало быть… Стало быть, он не настолько прост, как мне казалось. Стало быть, он что-то желает получить от меня. Что? Конечно, не квалифицированное прокурорское расследование. И не систему энергичных мер — в духе сыщиков из МУРа, И не схему охраны.