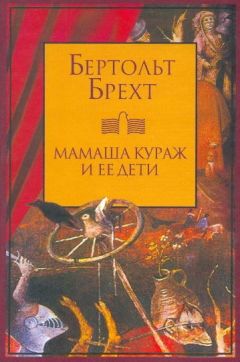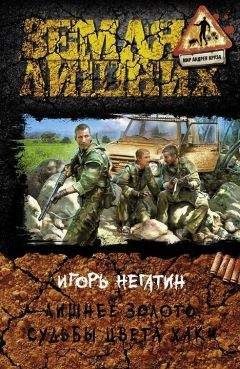Мы вместе посмотрели скачку. Влияние его личности так сильно, что я уехал из Данстэбла вполне ободренным, временно позабыв о своих двухдневных неудачах.
Но эта бодрость и уверенность в себе оказались обманчивыми. Мое колдовское везение кончилось так же неожиданно, как и началось, — и жестоко при том за себя отомстило. Данстэбл оказался лишь частицей водоворота. В течение двух следующих недель я скакал семнадцать раз. Пятнадцать лошадей пришли в числе последних. И только в двух случаях это было правильно.
Я не мог ничего понять. В моей езде, как я знал, ничего не изменилось. А как поверить в то, что все мои лошади потеряли форму одновременно? И я стал ощущать, как с каждым тревожным, сбивающим с толку днем меня покидает уверенность в себе.
Была одна серая кобыла, на которой я особенно любил скакать: из-за быстроты ее реакции. Казалось, она угадывает мои намерения секундой раньше, чем я подавал ей команду. Будто так же быстро оценивала ситуацию и действовала независимо от меня. У нее был добрый нрав и шелковый рот. А прыгала она великолепно. Мне нравился и ее владелец, коренастый весельчак-фермер с сильным норфолкским акцентом. Мы наблюдали с ним, как ее провели по смотровому кругу, и он посочувствовал моему невезению:
— Не горюй, друг! Моя кобыла сделает все как надо. Уж она тебя не подведет! На ней ты пройдешь как следует!
Я начал скачку улыбаясь — ведь я тоже был уверен, что пройду на ней хорошо. Но на этой неделе лошадь как подменили — никакого темперамента. Будто едешь на машине со спущенными колесами.
Веселый фермер был уже вовсе не весел.
— Она еще никогда не приходила последней, друг, — упрекнул он меня.
Мы осмотрели ее, но ничего подозрительного не заметили: кобыла даже не очень запыхалась.
— Придется обследовать ее сердце, — с сомнением произнес фермер. — Но ты уверен, что дал ей волю, друг?
— Конечно. Только у нее сегодня не было никакого настроения.
Фермер печально и озадаченно покачал головой.
Одна из лошадей принадлежала высокой женщине с резкими чертами лица. В скачках она была докой и терпеть не могла неумелых наездников. И после того, как за фут до финиша мне удалось на ее очень дорогом, недавно купленном жеребце, перебраться из последних на второе от конца место, она прямо-таки набросилась на меня:
— Надеюсь, вы понимаете, — начала она громогласно, жестким тоном, не смущаясь близостью завсегдатаев скачек, — что за эти пять минут вам удалось наполовину снизить стоимость моей лошади и выставить меня полной идиоткой. Да я же заплатила за нее целое состояние!
Я извинился, предположив, что ее лошадь требует немного времени для наработки…
— Времени? — повторила она со злостью. — Для чего? Чтобы вы проснулись? Вы с самого начала держались слишком далеко! Вам нужно было со старта идти вплотную… — Ее едкая лекция все продолжалась и продолжалась. А я смотрел на красивую голову ее породистого жеребца и думал: «Неужели он так плох, как показался? Не похоже…»
В среду был великий день для десятилетнего мальчугана по имени Хьюго, с сияющими глазами и заговорщицкой улыбкой. Его эксцентричная богачка-бабушка подарила Хьюго крупного гнедого скакуна и была достаточно предусмотрительна, чтобы заплатить и за его тренаж.
Мы с Хьюго сразу стали большими друзьями. Зная, что я каждое утро вижу его любимца в конюшнях Джеймса, он стал присылать мне маленькие посылочки с кусочками сахара, утащенными со стола в частной школе. Я добросовестно передавал лакомство по назначению. И в ответ посылал Хьюго детальный отчет о тренировках его жеребца.
В эту среду Хьюго не только сам отпросился из школы, чтобы увидеть, как пройдет его лошадь, но и привел с собой трех товарищей. Все четверо стояли со мной и с Джеймсом на смотровом кругу. Матери Хьюго нравилось, что ее сын наслаждался всеобщим вниманием. И когда я вышел из весовой, она широко улыбнулась мне со своего места на трибунах.
Мы с Джеймсом получили большое удовольствие, обращаясь с четверкой взбудораженных мальчуганов, как мужчины с мужчинами. И они это оценили.
«На этот раз, — обещал я себе, — я выиграю, ради Хьюго. Я должен! Я обязан!»
Но гнедой красавец прыгал в тот день совсем уж неуклюже. Почти у каждого забора он как-то нырял головой вниз и один раз, чтобы не полететь кувырком, мне пришлось свеситься вниз с его шеи. Отпустив одну руку, я еле удержался за поводья. Свободная рука, скользнув по боку, помогла мне перенести тяжесть назад и усидеть в седле. Но такой жест, известный как «подзывание кэба», не мог встретить одобрения Джеймса, утверждавшего, что это стиль «испуганных любителей».
Личико Хьюго было красным от расстройства. И трое его друзей угрюмо волочили ноги. Из-за этих свидетелей у мальчика не было никакой возможности скрыть свою неприятность в школе.
— Мне ужасно жаль, Хьюго, — искренне извинился я за все — за себя, за лошадь, за скачку и за безжалостность судьбы.
Он ответил мне со стойкостью, которая могла бы послужить уроком для многих владельцев постарше его:
— Сегодня просто неудачный день, — по-доброму пояснил он. — И кто-то ведь должен прийти последним. Так сказал мой папа, когда я получил самый низкий балл по истории. — Он снисходительно поглядел на гнедого и спросил: — А на самом-то деле он хорош, правда?
— Конечно, — охотно согласился я. — Очень хорош.
— Ну что ж, — сказал Хьюго, храбро поворачиваясь к своим друзьям. — Ничего не поделаешь. Надо бы выпить чаю.
Подобных неудач было слишком много, чтобы они могли остаться незамеченными. Прошло несколько дней, и я ощутил перемену в отношении к себе. Кое-кто, в частности Корин, выказывал нечто вроде презрения. Другие смотрели на меня с неловкостью, некоторые с сочувствием, иные с жалостью. Все головы оборачивались в мою сторону, и я ощущал волну сплетен, вскипавшую за спиной.
— Что именно говорилось? — спросил я у Тик-Тока.
— Не обращай внимания, — отмахнулся он. — Победишь пару раз, и они начнут крутить педали назад и снова кидать лавровые венки. Тут какая-то гнусная подлость, мой друг, вот и все!
Больше ничего я из него не вытянул.
В четверг вечером Джеймс позвонил мне и попросил приехать. Я невесело брел в темноте. Неужто и он, как два других тренера, в тот же день ищет предлог, чтобы дать мне отставку. Винить его я не смел: таким могло быть требование владельцев — прекратить отношения с жокеем, который постоянно не в форме.
Джеймс пригласил меня в свой кабинет, соединяющий дом с двором конюшни. Стены увешаны фотографиями скачек и длинным рядом жокейских камзолов на вешалках. Массивное бюро да три кресла с продавленными пружинами и ветхий турецкий ковер на полу. В камине алели раскаленные угли. За последние три месяца я провел здесь немало часов, строя планы насчет предстоящих скачек и обсуждая прошедшие.
Джеймс посторонился, чтобы дать мне войти первым. Потом плотно прикрыл дверь и весьма агрессивно вскинул на меня глаза:
— Похоже, — заявил он без всяких предисловий, — что вы утратили кураж.
В кабинете было тихо до жути. Лишь слегка потрескивал огонь, и слышалось, как в ближайшем деннике лошадь била копытом. Я смотрел на Джеймса, а он на меня. Молчание длилось долго.
— Никто не может винить человека за то, что он утратил мужество, — произнес Джеймс вовсе необязательные слова. — Но тренер не может держать у себя жокея, с которым это случилось.
Я все еще молчал.
Он подождал несколько секунд и продолжал:
— Вы продемонстрировали все классические симптомы… Тащились в хвосте, останавливались без всякой причины, ни разу не набрали скорости, чтобы хоть разогреться, «подзывали кэб»… И чтобы не свалиться, держались сзади, — вот ваш новый стиль!
Я слушал ошеломленный.
— Помните, я обещал вам, что если услышу относительно вас какие-нибудь слухи, то прежде чем им верить, постараюсь убедиться в их справедливости?
Я кивнул.
— В прошлую субботу несколько человек выразили мне сочувствие, потому что мой жокей утратил кураж. Я не поверил. Но с тех пор внимательно наблюдал за вами.
Онемев, я ожидал казни. Да, эту неделю я участвовал в семи скачках и пять раз пришел последним.
Он тяжело опустился в кресло у камина и приказал раздраженно:
— Да садитесь же, Роб. Не стойте там, молча, как сраженный бык.
Я уселся и уставился на огонь.
— Мне казалось, вы будете отрицать это… Значит, все это правда?
— Нет.
— И это все, что вы можете сказать? Что с вами случилось? Вы должны дать мне хоть какое-то объяснение.
— Объяснить не могу, — произнес я с отчаянием. — Но каждая лошадь, на которой я скакал за последние три недели, будто окунула копыта в патоку. Все дело в лошадях… А я все тот же. — И сам почувствовал, что звучит это неубедительно.