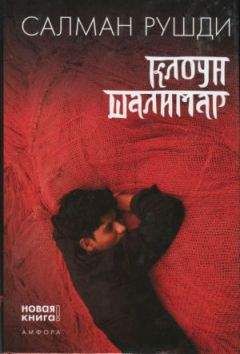– Варя, объясните мне, пожалуйста, зачем же вы его завели? – спросил Даниил настороженным, подчеркнуто спокойным голосом.
– Я и не заводила. Это кот подруги. Отвратительная личность, которую никто не захотел брать на передержку и которого она побоялась вести с собой в Америку. Этот мерзавец каждый день устраивает в квартире погромы, орет по ночам от скуки и портит мне жизнь. Сегодня он выпотрошил холодильник, и я битый час отмывала кухню, – полным возмущения голосом рассказывала Варя. – Я терплю его уже четвертый месяц, но сегодня мое терпение лопнуло. Пришло время расплаты. – И Варя снова протянула руки к коту.
«Кажется, не сумасшедшая и не садистка», – с облегчением подумал Даниил, готовый уже бежать прочь от Вари с котом в обнимку.
– Варя, может, простим хулигана в честь нашего с вами первого свидания, – обворожительно улыбнувшись Варе, предложил Даниил.
Что ж, выглядел он весьма впечатляюще. В дорогом модном костюме, который сидел на нем с небрежной элегантностью. Стройный, высокий, с густыми, ухоженными волосами золотисто-каштанового цвета и пронзительным взглядом чуть прищуренных карих глаз. Любая девица пала бы к его ногам, стоило только глазом моргнуть, не то что улыбнуться. Но Варвара и бровью не повела.
– А кухню за ним вы убирать будете?
Даниил взглянул в сторону разгромленной кухни, потом на Варю.
Она стояла, выжидательно глядя на него без тени улыбки. В таких ситуациях Даниилу бывать еще не доводилось. Она, что, всерьез ожидает, что он станет мыть кухню за ее котом? Мерси. И он решительно сунул Варе кота.
Шкипер укоризненно мяукнул, пораженный столь коварным предательством. И тут же вцепился с диким визгом в Варины рукавицы.
Воспитательная процедура прошла успешно. Шкипер орал, сворачивался кольцом вокруг Вариной руки, показывая чудеса гуттаперчивости, но Варя безжалостно удерживала его над унитазом, раз за разом спуская воду. По окончании экзекуции Шкипер с жалобным плачем умчался в комнату, забился под кровать и там, в темноте и одиночестве, принялся зализывать душевные раны.
– Ну, вот. Теперь можно и на свидание, – радостно заявила Варя, входя в комнату.
– В таком виде? – бестактно ляпнул Даниил, не успев сдержать рвущееся наружу недоумение. Общение с Варей вообще требовало от него постоянных душевных усилий, даже не сказать подвигов.
И пока Варя приводила себя в ванной в порядок, он предавался в комнате не праздным размышлениям, а вопросом: стоит ли овчинка выделки? Так ли уж ему хочется продолжать это знакомство? Вопрос остался открытым, поскольку Варя вошла в комнату сообщить о том, что наконец-то готова.
Выглядела она сейчас совершенно другим человеком. Даниил даже улыбнулся от удовольствия. Изящное платье чуть за колено, подчеркивающее фигуру, фигурка у девицы оказалась весьма ничего, раньше он этого не заметил. Босоножки на шпильке, волосы уложены в замысловатую прическу из кос. «С такой, пожалуй, не стыдно в приличном месте появиться», – решил Даниил, поднимаясь с дивана.
1893 г.
Елизавета Николаевна влюбилась. Случилось это два года назад, ей было тридцать шесть, она ни о чем не мечтала, ничего не ждала и даже не могла понять, как такое произошло. Жила она к тому времени у своей младшей сестры, бывшей замужем за инженером Виктором Владимировичем Ковалевым и имевшей в счастливом браке пятеро детей, в просторной квартире на Петроградской стороне.
С Дмитрием Константиновичем Вересовым они познакомились у общих приятелей. Встречались несколько раз, потом он нанес визит, другой, стал регулярно бывать у них в доме, очень понравился сестре и зятю, потом последовали приглашения в театр, на концерт, на загородную прогулку. Дмитрий Константинович был человеком приятным, образованным, очень любезным, с солидными сдержанными манерами и приятной, хотя и не выдающейся внешностью. И Елизавета Николаевна не заметила, как увлеклась им. Отношения их складывались ровно, Дмитрий Константинович оказался романтиком. Букеты, записки, маленькие трогательные сувениры, тайные пожатия руки, а затем пылкие, короткие поцелуи в темной прихожей и прочие атрибуты романов удивительным образом тронули обычно строгую и даже пуритански выдержанную Елизавету Николаевну. Она стала носить голубое и розовое, полюбила кружева и банты, и вообще, словно бы помолодела лет на пятнадцать, почувствовав себя совсем юной девушкой. И произошли эти перемены всего за каких-нибудь полтора месяца. А потом все оборвалось в один день.
Объяснение происходило в гостиной, где висел портрет Гаршина. Дмитрий Константинович вышел из кабинета Виктора Владимировича, куда заходил по одному «незначительному делу», и, проходя мимо поднявшейся ему навстречу Елизаветы Николаевны, холодно мимоходом бросил:
– Прощайте, сударыня.
– Как, вы уже уходите? – растерялась мгновенно потускневшая Елизавета Николаевна, но тут же спохватилась и, схватив Дмитрия Константиновича за руку, удержала его на пороге комнаты. – А чай? А потом мы собирались на прогулку?
– Сожалею, – сухо ответил Дмитрий Константинович, намереваясь покинуть гостиную.
– Что стряслось, вы что, поссорились? Это из-за Виктора Владимировича? – встревоженно, со слезами в голосе, спросила Елизавета Николаевна.
– Да, поскольку он не счел возможным оказать мне небольшую услугу, на которую я весьма рассчитывал, мне здесь бывать более незачем, – решительно забирая у Елизаветы Николаевны руку, проговорил гость.
– Как так? А как же я? Как же мы? – лепетала бессвязно Елизавета Николаевна, пытаясь понять смысл происходящего.
– Мы? – с холодной язвительностью переспросил Дмитрий Константинович и, не скрывая мстительного удовлетворения, пояснил: – Никакого «мы», сударыня, нет и не было. Мне был интересен ваш зять, я решил, что, ухаживая за вами, я, возможно, скорее добьюсь своей цели. Войду в вашу семью и заслужу его симпатию, чтобы заручиться его помощью в одном деликатном деле. Но, вероятно, ваш зять гораздо менее дорожит вашим счастьем, чем мне это мнилось. Он категорически отказался помочь мне. На сем мой интерес к вашему семейству закончился. Прощайте.
Елизавета Николаевна стояла, онемевшая от ужаса и унижения, прижав ко рту руки, словно стараясь сдержать рвущиеся наружу чувства, ее щеки горели, словно от пощечин.
– Ах, да, – останавливаясь на пороге, добавил мимоходом Вересов, – мой вам совет, уберите этого вурдалака из гостиной, вон как у него глаза сверкают, того и гляди из портрета выскочит и сожрет меня. Он вам своим зверским видом только гостей распугивает. – И негодяй кивнул в сторону портрета Гаршина.
Последнее замечание вывело Елизавету Николаевну из состояния хрупкого равновесия, и она с истеричной эмоциональностью воскликнула:
– Не смейте! Не смейте оскорблять память прекраснейшего из людей! Вон из нашего дома!
– Как пожелаете, – равнодушно пожал плечами Дмитрий Константинович и вышел.
Елизавета Николаевна обессиленно повернулась к портрету, словно ища в нем поддержки. Глаза Всеволода Михайловича светились такой проникновенной добротой и любовью, ей даже показалось, будто в них светятся слезы жалости и сочувствия.
Елизавета Николаевна всхлипнула и, совершенно несчастная, опустилась на диван, дав волю рыданиям.
А на следующий день стало известно, что Дмитрий Константинович скончался накануне вечером по пути домой, попав под конку. Ему перерезало ногу, и он истек кровью.
Это было одно из наиболее ужасных и значимых событий, которое заставило Елизавету Николаевну всерьез задуматься о мистических свойствах картины, а слова покойного Вересова о кровожадном взгляде фигуры с портрета никак не шли из памяти. Но было и множество мелких происшествий, тем не менее складывавшихся в тревожную, запоминающуюся цепочку.
Все в доме стали замечать, что стоит кому-то обидеть Елизавету Николаевну и не извиниться, как с этим человеком тут же произойдет какая-нибудь неприятность. То горничная утюгом ошпарится, то кухарка поскользнется, ногу вывихнет и неделю хромает. Володя, старший сын хозяев, нервный и невыдержанный подросток, палец бумагой порежет глубоко и болезненно. И случаев таких не сосчитать. Замечаться, конечно, стало не сразу, и никто, кроме Елизаветы Николаевны, связать эти странности с портретом не пытался. Да и она-то сама над собой посмеивалась, а только старалась поскорее всех простить и со всеми помириться, укоряя себя в суеверии и буйных мистических фантазиях, к которым на старости лет начинают склоняться старые девы.