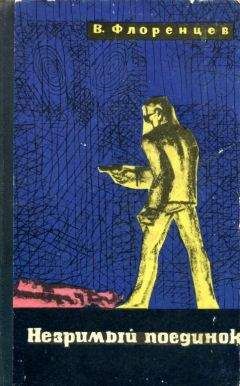— Ну, как же! Тут, когда народ сбежался, я гляжу — он стоит у калитки и плачет. Я его к себе забрала.
«Слава богу, — подумал Дубровин, — с мальчишкой хоть все в порядке».
Он глядел на женщину — серые глаза ее, запрятанные в складках кожи, смотрели куда-то вдаль, словно давно уже что-то искали, но так ничего и не нашли.
— Я к Лене стучалась, хотела долг ей отдать, — объясняла Пелагея. — Слышу, кричит кто-то во дворе. Сильно так кричит. Тут еще сосед вышел. И мы вместе с ним застучали. Потом стихло все, только Олежка плачет. Так ревмя ревет. Я Лену зову — не откликается. Тут уж народ стал собираться. Мужчины поднаперли плечами — калитка и подалась. Как мы вошли во двор, я так и обмерла. Гляжу — у тропинки Ленка лежит, голова вся в крови. Ну, «скорую» мы вызвали. А Олежку я к себе забрала.
— Мальчика не расспрашивали? Ничего не рассказывал?
— Говорил, как же. Дядя, говорит, приходил и хотел его забрать.
— Та-а-к…
— Ну потом, когда Лену увезли, участковый пришел, попросил всех со двора. Сказал — сейчас милиция приедет…
Дубровин расспрашивал еще пятерых свидетелей, но ничего нового, кроме того, что Дубровин знал, они уже не могли сообщить. Вернулся Игошин. Он сказал, что собака пошла по следу — ясно, что Глухарь перелезал через забор, но на шоссе его след затерялся, видимо, он сел на такси или в автобус. К Пелагее Дубровин вернулся один — все разъехались по домам.
Тетка Пелагея жила через два дома от квартиры Ольховской. Дубровин постучался. Скрипнула дверь, загремела цепочка — хозяйка не спала.
— Проходите, проходите, — засуетилась она.
Во дворе у сарая сидел на цепи огромный дог и сумрачно глядел на капитана.
— Он не укусит, — сказала Пелагея и проводила гостя в комнату.
Половину комнаты занимал неуклюжий свежевыкрашенный буфет, из-за стекла на непрошеного гостя глядели целые горы тарелок, чашек, бокалов и рюмок.
«Как этот буфет внесли сюда, — подумал Дубровин, — ни через окно, ни через дверь он явно не пролезет».
Дверь во вторую комнату была открыта, и он увидел тяжелую, громоздкую никелированную кровать, покрытую грудой бархатных одеял. Похоже, что на кровати никто никогда не спал, потому что Олежка лежал на диване. С открытыми глазами.
Увидев Дубровина, он заплакал.
— Ма-а-ма! — закричал Олежка.
Дубровин подхватил его на руки.. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся. Два огромных глаза с надеждой смотрели на него.
— Мама скоро придет, — прошептал он на ухо Олежке.
— Можно вас на минутку, — тетка Пелагея кивнула Дубровину в другую комнату.
Капитан поставил Олежку на пол.
— Подожди, я сейчас, — сказал он.
Пелагея плотно закрыла двери.
— Может, он у меня пока поживет, а? — попросила она.
— У вас?
— Ну, да…
Дубровин увидел в углу икону, около которой горела свеча, и покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Мальчик поедет со мной…
Когда он вышел на крыльцо, держа за руку Олежку, над просыпающимся городом уже снова бушевал ливень. Тяжелые струи дождя сбивали с деревьев одинокие листья, и те беспомощно кружились, подхваченные потоками шалой воды.
Когда женщина начинает мечтать о ребенке? Это как тоска дерева по влаге. Позавчера жене Дубровина Ольге стукнуло тридцать лет. Они женаты седьмой год, а детей у них не было, и надежды, кажется, тоже не оставалось. Зимой, на второй день после свадьбы, поехали кататься на санках. Оля провалилась под лед. Болела около месяца. Выздоровела. Но знакомый районный врач сказал тогда Дубровину: «Боюсь, Костя, детей у вас не будет».
Правду сказал…
«Ей позавчера стукнуло тридцать, — с грустью подумал Дубровин. — А я даже не поздравил ее. И позвонить не успел на работу».
Всю ночь пришлось просидеть в засаде у Куйлюкского моста, возле бетономешалки. Там в один дом Усач должен был прийти. И почему это преступники себе клички выдумывают? Человеческие имена им, что ли, не нравятся? Ведь это только у собак клички бывают да у бандитов. Усач — хитрюга еще тот: на него всесоюзный розыск объявлен. Ночь оперативники зря продрогли. Никто не появился.
Но наутро Дубровин все-таки взял его. На квартире в Рисовом переулке. Прямо с постели поднял. Усач никак не ожидал столь раннего «гостя». И не успел сунуть руку под подушку. А под подушкой у него пистолет. Тепленький. Нагретый за ночь.
Это позавчера. А вчера ночью Ольгу, которая работала медсестрой, назначили в ночную смену. Сегодня ночью Дубровин дежурил сам. Вот так они и живут… Но сейчас она дома — он знает, как она воспримет появление Олежки. Дубровин давно замечал, что в присутствии детей лицо Ольги становится жалким, кажется, сейчас заплачет…
— Принимай тезку, Оля! — крикнул с порога Дубровин. — И поздравляю тебя с днем рождения. Лучше поздно, чем никогда. Ну, иди, иди, — тронул он Олежку за плечо.
Когда они прошли в другую комнату, он коротко рассказал жене о случившемся.
— Поживет пока у нас Олежка? — Дубровин взглянул Ольге в глаза.
— Как же вы допустили, Костя? — спросила Ольга, с грустью глядя на мальчишку.
— За ее домом мы давно следили, — виновато сказал Дубровин. — Но вот сняли охрану на днях. Кто мог предвидеть…
— Ты проходи, проходи, — улыбнулась мальчику Ольга. Она дула на пальцы, обожженные горячим картофелем, — Ольга варила картошку в мундире. На глазах у нее появились слезы.
Дубровин вспомнил — сосед рассказывал ему, как однажды Ольга, сидевшая вечером после работы во дворе на скамейке, позвала к себе игравшего на песке мальчишку. О чем-то долго с ним разговаривала, а потом вдруг начала осыпать его голову поцелуями. Мальчишка испугался и заплакал. А Ольга медленно поднялась, оглянулась — не заметил ли кто из соседей. Лицо у нее было жалкое и растерянное.
— К маме хочу! — захныкал Олежка, когда Ольга ушла на кухню.
— Мама болеет, — сказал Дубровин. — Вот выздоровеет, и мы к ней сходим.
— Сейчас хочу-у-у, — заныл Олежка снова.
— Завтра пойдем, ладно? — успокоил его Дубровин. — Ты картошку любишь?
— Да. Дядя Гриша тоже любит.
— Какой дядя Гриша?
— Шофером он работает. Он меня на машине катал.
— А он часто приходил к маме?
— Да, каждый день.
— А еще никто к вам не приходил?
Олежка молчал. Вдруг он замотал головой, и в глазах его отразился испуг.
— Не-е-е… Только один дядя. Он меня целовал сильно…
— Ну, ну… — заволновался Дубровин. — Долго он был?
— Не-е… Они с мамой ругались. А мама сказала: «Иди, откуда пришел».
— Ну, а потом?
— Они во двор вышли. А потом я слышал, как мама закричала.
Олежка снова заплакал.
— Не плачь, мама скоро придет, — сказал Дубровин.
— А где она?
— В больнице. Поправится скоро и приедет.
Ольга появилась в дверях с полной тарелкой картошки. От тарелки шел густой пар.
— Вот, Костя, почисти пока, а я принесу термос, — сказала она. — Ты знаешь, я прочитала в календаре: если налить теплое молоко в термос, оно становится таким вкусным, словно из русской печки.
— А там у тебя чего? — спросил Олежка, поглядывая на желтую кобуру, которую Дубровин отстегнул и положил на этажерку.
— Там пистолет.
— У меня дома тоже есть. Мне мама купила в универмаге.
— У меня настоящий, — похвалился Дубровин.
— У меня тоже, — обиделся Олежка.
— Ты не обижайся, это я так. Давай — мир?
— Давай. А я на тебя не обижаюсь. Ты скажи, в кого ты стреляешь?
— Я не стреляю.
— Чего ж он, испортился у тебя, что ли? Ты зачем его носишь в кобуре?
— У меня работа такая.
Дубровин вытащил из заднего кармана маленькую прямоугольную фотографию Глухаря, где он был сфотографирован в профиль и в фас. Поглядел на фотографию, а потом на Олежку. Похож Олежка на Глухаря. Глаза в точности, и нос, и разлет бровей. Ничего тут особенного нет — сыновья почти всегда похожи на своих отцов…
— А я знаю, — воскликнул Олежка. — Ты в бандитов из пистолета стреляешь. Мой папка тоже такой носит. Только у него наган.
— А ты откуда знаешь?
— А мне мамка говорила. Она говорила, что мой папка моряком работает. У всех моряков наганы есть. Я знаю.
— Где ж работает твой папка?
— Он на пароходе плавает. Далеко. Где лед и снег. Только когда я мамку о нем спрашиваю, она мне много не рассказывает, а плачет…
— Та-ак… — вздохнул Дубровин. — Ты картошку любишь?
— Угу.
— Давай есть. Пойдем руки помоем.
Наскоро поев, они стали укладываться спать. Дубровин первый. Потом Ольга долго укладывала Олежку. Дубровин наблюдал, как она укрывала мальчика байковым одеялом, как сидела у его кровати, подперев голову руками, до тех пор, пока он не уснул.