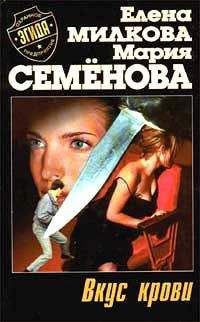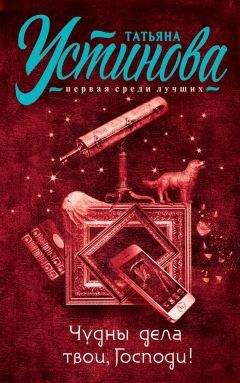– Принес. – Глеб торопливо начал выкладывать из сумки на тумбочку сыр, масло, баночку красной икры, гранаты, яблоки и наконец извлек серые шерстяные носки.
– Глебушка, не эти, – с упреком сказала мать. – Я же просила синие.
– Прости, я нашел только серые.
– Ох уж эти дети, – вздохнула Софья Николаевна. – Ну ладно. Газеты принес?
– Да, конечно, – кивнул Глеб. – Вот «Невское время», «Петербургский вестник», «Эхо».
Мать села на кровати, с интересом глядя на прессу.
– Вот этого не надо. Желтая газетенка, – категорично заявила она. – А где «Итоги»?
– Прости, не нашел.
– В следующий раз обязательно найди. Ты же знаешь, для меня своевременная информация – лучшее лекарство.
– Что говорит врач? – спросил Глеб, присаживаясь у кровати.
– Сделали сегодня еще одну кардиограмму, – мать сунула ноги в тапочки,пойдем поговорим в холле.
В семь часов посетители ушли. Софья Николаевна деловито разложила принесенное по полкам тумбочки и погрузилась в чтение. Тем временем все остальные обитательницы четвертой палаты кардиологического отделения стали обсуждать более животрепещущие события, происшедшие в американском городке Санта-Барбара.
Мнения разделились. Одна половина больных твердо держалась мнения, что самым обаятельным остается Мейсон, другие высказывались в пользу Круза. Софья Николаевна не принимала участия в беседе. Она единственная из шестнадцати временно прописанных в палате не имела собственного мнения по этому поводу, поскольку не знала, чем Круз отличается от Мейсона.
Дверь в палату распахнулась, и вошла дежурная медсестра. Она раздала всем градусники, затем грозно сказала:
– Петрова! Завтра утром кардиограмма.
Дверь захлопнулась. Больная Пуришкевич сунула градусник под мышку и взяла с тумбочки газету.
«Хорошо, Глеб принес свежее „Невское время“, – подумала она, – а то тут с ними одичаешь».
Она погрузилась в чтение статьи «А были ли выборы» о результатах поистине постыдных. За три дня на пункты голосования пришло семнадцать процентов избирателей!
Но сосредоточиться на чтении было трудно. Потому что в четвертой палате затронули тему, животрепещущую для каждой российской женщины.
– А Бари Алибасов говорил так; «Сначала моя ежедневная норма составляла сто граммов водки в день, – вещала Петрова, уже переставшая умирать, – потом я дошел до двух литров». – Она сделала многозначительную паузу.
– Это же четыре бутылки! – воскликнул тонкий голосок. – Никаких денег не хватит.
– Да он лопатой загребает!
– Да при чем тут деньги? Здоровье-то как они гробят!
– Так вот, – продолжала Петрова, – а потом, говорит, я понял, что хватит, стал снижать норму и дошел обратно до ста граммов в день.
– Ну так это Бари Алибасов, – сказал кто-то, – у него сила воли. А наши мужики? Скажи им снижать дозу!
– А как вы думаете? – спросила женщина, о которой было известно, что она прапорщик. – Его брак с Федосеевой-Шукшиной настоящий или фиктивный? Говорят, они, как Пугачева с Киркоровым, поженились просто в рекламных целях. Ведь она его старше, и такая… Он ведь любую манекенщицу мог взять.
– Просто Бари Алибасов толковый мужик, – ответил тонкий голосок. – Ему нужна умная женщина.
Софья Николаевна едва дождалась, когда сестра вернется за градусниками, и сразу после этого вышла в холл, где стоял телевизор. По пятому каналу заканчивались новости. Зрителей было немного – большинство больничных обитателей ими не интересовались.
– В заключение прослушайте объявление по просьбе органов внутренних дел, – заговорила дикторша казенным языком. – «Вниманию пассажиров электропоезда Гдов-Санкт-Петербург, прибывшего в Петербург двадцать второго октября в двадцать три тридцать семь! Всех, кто следовал по перегону семьдесят третий километр – Школьная в двух хвостовых вагонах, убедительно просим позвонить по телефону…» – Внизу появилась бегущая строка, повторявшая номер телефона.
– У нас как раз дача в Школьной, – сказала, обращаясь к соседке, Софья Николаевна. – Сын только что привез оттуда яблоки. Сказал, вроде все спокойно.
Неужели опять грабят дачи?
– Не говорите, – отозвалась пожилая женщина из соседней палаты. – Мы тоже в Орехове так страдали от этих грабежей. Главное, не столько возьмут, сколько напакостят.
Новости кончились, начался какой-то боевик. Такие фильмы Софья Николаевна не смотрела принципиально, а потому пошла на сестринский пост позвонить: по ее расчетам, Глеб уже добрался до дома.
– Глеб? – сказала она, услышав на другом конце провода голос сына. – Как ты доехал? Все в порядке? Нет, мне стало немного лучше. Но врач сказал, категорически нельзя волноваться. Да, я только что смотрела новости. Ты какого числа ездил к нам в Школьную? В среду? Это двадцать второе. По телевизору просили позвонить всех, кто ехал на гдовской электричке. Я считаю, ты тоже должен позвонить.
– Мама, – раздался на том конце провода глуховатый голос Глеба, – завтра я собирался в «Публичку». И телефона я не знаю, куда звонить.
– А ты позвони в милицию, – настаивала мать. – Тебе сообщат.
– Нет уж, это слишком сложно, – наотрез отказался Глеб.
Мать вздохнула. Она хорошо знала, что ее мягкий и спокойный сын подчиняется только до определенных пределов. Но если он чего-то решительно не хочет делать, заставить его невозможно. В глубине его покладистой души находился кремень.
– Ну как хочешь… Хотя я предпочла бы, чтобы твоя жизненная позиция была более активной. Ну ладно, ладно. До свидания, жду тебя во вторник.
Она вернулась к телевизору. Зрителей заметно прибавилось – по первой программе началась «Любовь с первого взгляда»…
– А в прошлое воскресенье одна пара выиграла «романтическое путешествие» на Канары. Он такой симпатичный, а она крокодил крокодилом, – громогласно рассказывала женщина-прапорщик.
Убедившись, что большинство собирается смотреть эту никчемную передачу, Софья Николаевна удалилась к себе. По крайней мере, теперь можно спокойно дочитать газету.
«Да, – думала она, размышляя о Глебе, – все-таки у человека должна быть активная жизненная позиция. До чего мы дойдем, если каждый будет думать только о своем благе». Она вздохнула и снова взялась за газету.
27 октября, понедельник
Проверять производственные связи Марины Сорокиной Самарин послал Никиту Панкова. Много от этого похода он не ожидал, но надо было с чего-то начинать.
Основной задачей сейчас было составление фоторобота.
Не все пассажиры электрички Гдов – Санкт-Петербург оказались настолько лишенными «активной жизненной позиции», как Глеб Пуришкевич. Кое-кто отозвался, в основном пенсионеры, ровесники Софьи Николаевны и те, кто постарше. Люди старого закала. Всех их пригласили в прокуратуру.
Сначала на экране показали портрет убитой Марины Сорокиной. Большинство пассажиров на вопрос, видели ли они в электричке эту женщину, ответили отрицательно и были отпущены восвояси. Оставшиеся семь человек отвечали с разной степенью уверенности, что как будто припоминают ее. При этом четверо ехали в последнем вагоне, еще двое в предпоследнем, а седьмой свидетель, сорокатрехлетний Сидорчук, вообще не помнил, в каком вагоне ехал.
– В каком вагоне ехали – не помните, но уверены, что видели эту женщину? – с сомнением спросил Дмитрий.
– Уверен, – кивнул Сидорчук. – Она еще глазами так – зырк в мою сторону.
Самарин с сомнением окинул взглядом тучную фигуру говорившего. Как-то не верилось, что этот мужчина мог стать объектом интереса для молодой женщины – полный, неглаженый, с обветренным красным лицом. Хотя, с другой стороны, сердце женщины – загадка. Он, например, так никогда и не смог понять, почему Штопка выбрала себе в мужья Николу – высокого, худого, как глиста, художника-абстракциониста, живопись которого Самарин в глубине души считал мазней, но старался убедить себя в том, что просто ничего в этом не понимает.
– Савицкая, – услышал он тихий дребезжащий голос.
Дмитрий очнулся. «Нашел время для воспоминаний». Он посмотрел на очередную свидетельницу. «На вид восемьдесят лет, – мрачно констатировал он. – Может быть, сразу отправить домой, с этого-то божьего одуванчика все равно никакого толку. Хорошо, что помнит, как ее зовут, и на том спасибо». Но обижать женщину, пусть даже старую, Самарин органически был не способен. Пусть посидит старушка со всеми, все ей развлечение.
– Год рождения? – спросил он.
– Одна тысяча девятьсот семнадцатый, – с гордостью ответила Савицкая. – Я ровесница Октября!
– Ну что ж, можно только позавидовать, – тактично ответил Дмитрий и обратился к следующему свидетелю:
– Фамилия, имя, отчество, год рождения, домашний адрес.
Семь человек, из них одна дряхлая старушка, один – ехавший явно с залитым глазом, итого реально – пять. Не мало, но и не много. Как раз самое отвратительное число: максимальный разнобой. Самарин, как и любой следователь, знал, что показания свидетелей никогда не совпадают. В его практике не было случая, чтобы они сошлись в одном мнении, когда дело касалось марки машины, цвета одежды и тому подобных вещей. И что характерно, каждый твердо стоит на своем и даже не допускает мысли о том, что ошибаться может именно он, а не другой. Что это, «зрительный идиотизм»?