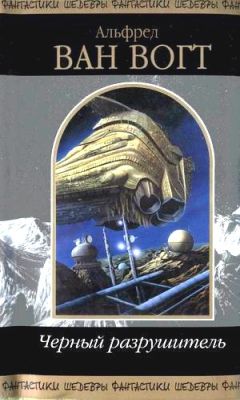«Ты знаешь, — сказал мне дядя, постучав пальцем по бумагам, — что я назначил тебя моим наследником. А теперь я хочу потребовать услуги от тебя. Ежели я умру нормальной смертью (мне захотелось спросить, какой иной способ умереть он имеет в виду, но я удержался), то у меня имеется ряд распоряжений касательно поместья, которые ты должен принять во внимание». И он стал перечислять предметы, которые ни в коем случае не следовало продавать или увозить из дома, начиная от стола, за которым мы сидели. Он перечислил предметы обстановки столовой и гостиной, отсчитывая их на пальцах, но как-то машинально, небрежно, будто мысли его были заняты другим.
Однако, когда он подошел к тому, что он называет своими «апартаментами», имея в виду галерею, библиотеку и кабинет на втором этаже, его манера совершенно изменилась. Доспехи должны оставаться в том виде, как будут обнаружены, все время, пока Холл остается во владении семьи. Это было сказано с невероятной настойчивостью и тоном, не допускавшим никаких возражений; он предупредил меня, что собирается указать это в завещании как условие наследования. Впрочем, я не знаю и, вероятно, не имею права спросить…
— Мы ничего не слышали от вашего дяди уже много лет, — сказал я. — Конечно, он мог проконсультироваться с кем-то другим…
— Нет, я уверен, он обратился бы к вам. Он сделал такие же оговорки по поводу библиотеки, но уже без того огня, что минутой раньше, и, перечислив содержимое еще нескольких комнат, сказал, что напишет все это как дополнительное распоряжение к своему завещанию.
И тут снова мой дядя смолк и принялся постукивать пальцами в перчатках по столу.
«Если я вдруг исчезну, — сказал он резко, — то есть в случае, если покажется, что я исчез… Если Дрейтон, например, сообщит тебе, что меня не могут найти, тогда никто не должен входить в мои апартаменты. Никто — ты понял? Не должно быть устроено никаких поисков. Никакие власти не должны быть уведомлены. Ничего не следует делать, пока не минуют три дня и три ночи, а после этого, если от меня не будет получено никаких сообщений, ты можешь войти в мою рабочую комнату и… сделать то, что будет необходимо. Но ничто не должно быть сдвинуто с места или убрано. Я еще раз повторяю — ничто, иначе ты лишишься наследства. Принимаешь ли ты эти условия? Отвечай — да или нет?»
Он взял со стола документ — явно завещание — и схватился за него обеими руками, словно готовясь разорвать на куски, если мой ответ его не удовлетворит.
«Что ж, да, — ответил я. — Но в данном случае вам больше пригодился бы мистер Монтегю».
Тут он прямо-таки прорычал в ответ — вам придется меня извинить:
«Не доверяю я юристам, и, помимо того, ты потеряешь больше, чем он. Ты даешь мне слово чести? Очень хорошо. А теперь я должен продолжить свою работу. Дрейтон о тебе позаботится и подаст тебе утром завтрак. А потом, я уверен, тебе захочется отправиться в путь как можно раньше».
Он встал, убрал свои бумаги и покинул комнату, даже не оглянувшись.
— Извините меня, — я не смог удержаться от вопроса, — неужели ваш дядя всегда так… резок?
— Точнее, оскорбителен, но вы слишком вежливы, чтобы так выразиться. Пожалуй, нет. Даже по его собственным меркам на этот раз он был исключительно груб, но, по правде говоря, я едва это заметил. Некоторое время я оставался за столом, размышляя над его странным требованием, а свечи догорали, и в столовой становилось все холоднее. Неужели мой дядя перешел грань от эксцентричности к откровенному безумию? Такой очевидный вывод напрашивался сам собой, и все же у меня не было чувства, что передо мной безумец. Или же он задумывался над исчезновением своего предшественника, пока… Но пока — что? Ответ, если он вообще есть, должен, по всей видимости, находиться на галерее; но как мне получить туда доступ? Когда дядя собирается отойти ко сну, он запирает на замки и засовы все двери, выходящие на лестничную площадку. Я уже отказался от этой мысли как от безнадежной и собрался было и сам отойти ко сну, как вдруг подумал о кабеле.
Луна была в своей второй четверти; если небо останется ясным, будет достаточно светло, чтобы видеть все вокруг. Я сказал Дрейтону, что мне надо подышать свежим воздухом и что ждать меня не нужно: я сам все запру, когда вернусь. В тени старого каретного сарая я ждал, наблюдая за дядиным окном, а часы все тянулись. Полночь пришла и прошла; была уже половина второго, когда свет в окне дядиного кабинета наконец погас. Я подождал еще полчаса, на всякий случай, вернулся к боковой стене дома и приготовился на нее карабкаться.
Хотя ночь была абсолютно тихая, лишь изредка небольшие облака проплывали перед лунным ликом, я не раз бросал опасливый взгляд на небеса, когда натягивал на руки перчатки и начинал подъем. Стена была достаточно неровной, чтобы обеспечить мне некоторую опору для ног, но, несмотря на холод, я взмок от пота, прежде чем добрался до узкого парапета, что проходит примерно на уровне пола галереи. Чуть выше этого карниза кабель уходил в стену. Подоконник был примерно в семи футах выше парапета; чтобы дотянуться до следующего участка кабеля, мне нужно было вытянуться во весь рост, балансируя на карнизе, схватиться за кабель левой рукой и перемахнуть к окну так, чтобы правой раскрыть приоткрытую створку.
Скорчившись на парапете, я не осмеливался взглянуть вниз. На память мне пришли строки о человеке, собирающем сапфиры на ужасной отвесной скале: они меня совершенно парализовали. Последнюю часть подъема я проделал одним отчаянным рывком и, задыхаясь, улегся поперек подоконника. Лунный свет сиял, освещая темную глыбу доспехов: они оказались почти прямо подо мной. Дверь в библиотеку, к моему облегчению, была закрыта, и из-под нее не видно было света. Я опустился на пол рядом с фигурой в шлеме и подождал, пока мое дыхание не замедлилось до обычного ритма.
Должен сказать, что дядя мой всегда очень неохотно допускал меня на галерею. Он не мог отказать мне в праве посмотреть на портреты моих предков, но никогда не оставлял меня с ними наедине, поэтому доспехи мне пришлось видеть лишь издали. Фигура установлена на металлическом постаменте, ее закованная в броню правая рука — на головке рукояти обнаженного меча, упертого, кстати говоря, острием в землю. Но мой взгляд искал только два участка кабеля, выходящего из стены: один оказался присоединенным к задней стороне шлема, другой — к постаменту, так что, если бы молния ударила в Холл, вся сила электрического тока прошла бы прямиком через доспехи.
Мне нужно было больше света, поэтому я решил рискнуть и зажечь принесенную с собой свечу. В ее трепещущем свете фигура в доспехах выглядела устрашающе настороженной и бдительной. Меч под бронированной правой рукой так и сверкал, и я заметил, что его кончик уходит в прорезь в постаменте. Подчиняясь порыву, я взялся за рукоять.
Меч в моей руке двинулся, будто рычаг, потянув за собою и железную руку. Я медленно тянул рукоять к себе, а по фигуре в доспехах прошла дрожь. Я в ужасе отстранился, но рукавом зацепился за рукоять, и меч продвинулся до конца своего пути. Казалось, в доспехах вдруг вспыхнула жизнь: почерневшие пластины брони резко распахнулись, словно какое-то чудовище стремилось силой вырваться наружу.
Однако внутри оказалась лишь пустота. Поднеся свет поближе, я разглядел, что пластины с обеих сторон держались на петлях, так что вся передняя часть доспехов — за исключением рук — открывалась наружу. Когда я вернул меч назад, в вертикальное положение, пластины снова закрылись, почти беззвучно. Места соединений были практически незаметны: все это, вероятно, потребовало от искусного мастера долгих месяцев усердной работы.
Я раскрыл тайну моего дяди, но что все это означало? Что, как он полагал, произойдет, когда молния, рано или поздно, ударит в Холл? Неужели он предполагал обманом или подкупом заставить какого-то ничего не подозревающего человека поместиться в доспехи — то есть в гроб — во время грозы, чтобы сам он мог увидеть результат? «Если покажется, что я исчез, — сказал он мне, — никто не должен входить в мои апартаменты, пока не минуют три дня и три ночи». Для чего? Чтобы дать ему время сбежать, если его жертва умрет?
Или он ожидает, что что-то появится оттуда? Признаюсь, при этой мысли волоски у меня на шее под затылком встали дыбом — еще и от выводов, к которым вела эта мысль в отношении психического состояния дяди. Однако теперь я решился во что бы то ни стало выяснить его цель и начал осматривать все вокруг, ища ключ к загадке. Я поначалу думал, что не найду ничего интересного на длинном столе, но в тени, на его дальнем конце, я обнаружил тонкий фолиант, переплетенный в пергамен.
Это была не печатная книга, а рукопись, написанная неразборчивым почерком, да еще готическим шрифтом. На титульном листе значилось лишь: «Тритемиус. О мощи молнии, 1697». Некоторые места книги были заложены полосками бумаги: это, разумеется, был тот самый таинственный алхимический труд, который некоторое время назад так взволновал моего дядю. Настоящий Тритемиус, как вы, верно, знаете, был в конце пятнадцатого века настоятелем Спонгеймского монастыря (мне пришлось разыскать сведения о нем в Британском музее): его сочли колдуном и обвинили в «диавольских кознях»; утверждали, что он изобрел «негаснущий огонь». Однако наш Тритемиус, автор этой рукописи, не числится в каталоге, а это заставляет предположить, что мой дядя — обладатель единственного или одного из очень немногих экземпляров этого труда.