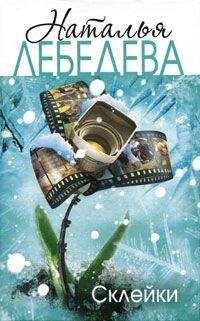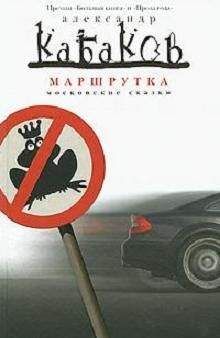– Что у нас происходит? Почему не работаем?
– Дан, у меня кассету украли...
– Как?! – Она изо всех сил таращит глаза, изображая крайнее удивление.
Я пересказываю ей историю с сумкой.
– Так! – Она выглядит угрожающе.– Что у тебя на ней было?
Я вздрагиваю: сначала мне кажется, что она имеет в виду отснятые документы. Потом понимаю: она про новости. И тут я с ужасом вспоминаю о субботней съемке:
– Дан, там был Карелин. Соревнования по борьбе.
– Так! – еще чуть-чуть, и она совсем озвереет.– Что будем делать?
– Дан, там Сашок снимал. Может, попросим у него?
Она сразу мягчает и говорит:
– Ага, сейчас позвоню ему на мобильник.
Данка выходит звонить в коридор, а возвращается уже с Сашком.
– Вот! – Данка предъявляет мне Сашка, как охотник предъявил бы подстреленную утку, только что не приподнимает его за шиворот. Хотя Данка могла бы: Сашок маленький и щуплый.– Как раз забежал. Взяла его тепленьким.
Сашок достает кассету, и мы сгоняем материал. С облегчением вижу, что он записал мой вопрос и ответ на него.
Я думаю о том, кто же мог украсть кассету, пока отсматриваю материалы и пишу тексты. Приходит Леха, я сажусь на озвучку и, читая по бумажке, кручу в голове все тот же вопрос. Четыре раза перечитываю одно предложение и запинаюсь раз за разом.
– Ты будешь сегодня читать? – беззлобно спрашивает Леха.
– Буду,– киваю я. Начинаю читать снова и запинаюсь уже на втором слове.
– Ты чего? – Леха удивлен. Обычно за мной такого не водится. Я горжусь тем, что могу читать тексты с первого раза.
– Да так. Просто мысли дурацкие в голове.
– А! О чем думаешь?
– Да все о том же, Леш.
– Про Эдика, что ли?
– Ага.
– Я тебе говорю, что если это кто-то из наших, то только Захар. А если не из наших, то вообще не думай.
– Ну почему Захар? Почему?
– Потому что у него рука бы поднялась. Точно тебе говорю. Ты у нас еще одну такую сволочь знаешь?
– Леш, ты к нему несправедлив... Да, он неприятный, но убийство...
– А почему? Вот смотри: у него свой кабинет. Значит, он мог сесть там и сидеть спокойненько, делать вид, что его нет. Так? А в нужный момент выйти и – хрясь!
– А как он узнал про нужный момент?
– Да как-как? Может, сам заманил. Повод убить Эдика у него был.
– Деньги?
– Деньги.
– Леш, от того, что он пристукнул Эдика, деньги к нему не вернулись.
– Оксан! – Леха поворачивается ко мне и хватается за рубашку на груди, забирая ткань в горсть.– Пойми, он даже из мести мог. Точно говорю: мог!
Леху прямо трясет. Я смотрю на него, и, не знаю отчего, мне становится мерзко.
– Что ты на меня так смотришь? – громко шипит он.– А по-твоему, кто еще мог? Кто?
– Леш, кто угодно! Кто угодно! Я, ты...
– Конечно – я!
И тут Леха меняется. Он тянет ко мне руки. Руки у него большие, с круглыми мягкими ладонями, на тыльной стороне – золотистые волоски. Ладони плывут к моему горлу.
Я вижу, что меня сейчас задушат. Страшно так, что не могу ни двигаться, ни кричать. Глаза у Лехи прищурены, я почти не вижу их, только хищно посверкивает белок меж покрасневшими веками.
Вот он, понимаю я. И сейчас я умру. В глазах двоится, тошнота подкатывает к горлу, потом монтажка окрашивается серыми тонами, а еще чуть позже Леха – другой, не страшный, тот, который был мне всегда симпатичен, испуганно бормочет:
– Оксанка, ты что?! Эй, ну-ка, ну-ка! – Он трогает мою щеку, машет на меня руками. Все это робко, нерешительно. Прихожу в себя, сажусь на стуле: оказывается, я начала сползать на пол.
Леха видит, что мне лучше.
– Ты чего? – спрашивает он.
– Не знаю,– отвечаю я, а потом вспоминаю его лицо.– Ты убить меня хотел?
– Ты чего? – В глазах его искренний испуг.– Я пошутить хотел, я не думал.
– Идиот,– говорю я устало. Теперь-то мне как божий день ясно, что настоящий убийца не стал бы расправляться со мной прямо здесь, когда за стеной трещит по телефону Данка, а Надька с Анечкой пишут сюжеты, и мимо них не пройти, и никак не объяснить моего исчезновения из монтажки.
– Леха, прости меня,– говорю я, собирая все силы, чтобы не расплакаться.
– И ты меня прости, дурака,– отвечает он.
Я поворачиваюсь к микрофону, касаюсь губами пыльника, Леха кладет руки на рычажки микшерского пульта. Читаю текст – спокойно, ровно, но все же невольно вздрагиваю, когда Леха движется на периферии моего зрения.
– Почему ты тут работаешь? – спрашивает Леха, когда мы заканчиваем с начиткой. Он говорит тихо, и я понимаю его не сразу:
– Что?
– Почему ты тут работаешь, если так боишься?
– Я не боюсь.
– Вздрагиваешь, падаешь в обморок. Разве это не страх?
– Понимаешь, Леш, я этого страха вроде бы даже и не чувствую. То есть я не хожу по офису, дрожа мелкой дрожью. Все нормально вроде. А потом вдруг – паника, ужас...
– Так почему ты не уходишь?
– Не знаю.– Мои пальцы мнут поролон пыльника, и, наверное, скоро я проковыряю в нем новую дырочку.– Во-первых, где мне еще работать? А во-вторых, я хочу узнать, кто.
– И как ты это узнаешь?
У меня в горле комок. Я чувствую, что права, но не могу этого объяснить.
– Я... просто... просто буду смотреть на всех вас,– говорю я и поправляюсь: – На них всех.– Леху я теперь исключаю.
– И что?
– И... пойму что-нибудь. Когда-нибудь.
Леха смотрит на меня с тоской и укором, как будто ему меня жалко.
– Ну ладно,– говорит он и начинает почти не глядя кидать на таймлайн куски видеоряда.
Когда я выхожу из офиса, на улице совсем темно. Фонарь в нашем дворике перегорел, небо затянуто тучами, не видно ни единой звезды. Под ногами – лужи, свинцовая вода смешана со снежной крошкой. Я перепрыгиваю через одну, другую, третью, но луж много, и сначала я случайно промахиваюсь, а потом попадаю в ловушку из луж... Сапог не промок, но я чувствую себя замерзшей и усталой.
Кто разрезал сумку? Кто украл кассету? И вдруг я понимаю, что это мог сделать только тот, кто знал, что она у меня. Тот, кто узнал об этом недавно...
Я сижу одна на двойном сиденье в полупустом троллейбусе, поставив ноги на железный выпирающий сбоку прямоугольник, опускаю плечи, скручиваюсь в кокон, в эмбрион... Стучит сердце, мне холодно: никак не могу согреться.
Дима. Вот кто узнал о кассете. Значит, он. Или всетаки нет? Не знаю. Слезы подступают к глазам.
20 декабря, вторник Оттепель продолжается, на тротуарах ширятся холодные лужи. Подхожу к офису и чувствую, как меня трясет озноб. Всегда так со мной в оттепель – от сырости.
Моя первая съемка в одиннадцать, и Дима – оператором.
Мы едем в ДК Профсоюзов. Там развито социальное направление, и сегодня открывают новый клуб: пенсионерам раз в месяц будут рассказывать о новом в их правах.Пенсионеров мало: всего шестеро человек. Их принимают в крохотной комнате, улыбчивая женщина говорит:
– Надеюсь, пришли самые активные, и думаю, что вы перескажете все, что мы будем здесь обсуждать, своим друзьям и соседям.
Дальше долго и тягостно говорят о новых законах. У пенсионеров в глазах тоска, и никто не задает вопросов.
Ни в машине, ни на съемке мы с Димой не сказали друг другу ни слова. Тут нет ничего необычного: он молчалив, и я не всегда хочу болтать – но я прячу глаза. Он не может этого не видеть.
Мы возвращаемся в офис и тут же уезжаем опять, разъезжаемся по разным съемкам.
Его долго нет, мне так легче. Я успеваю отсмотреть и написать оба сюжета, а его все нет.
В монтажке Леха ворчит: видеоряд к пенсионерам ужасен.
– Понимаешь, их там было всего шестеро человек...
– Нашла бы что-нибудь из архива,– стонет он, щелкая по иконкам разбитого на сцены видеоряда.
– Какой архив? Весь сюжет на этом дурацком клубе.
– Ну я не знаю! Ну посмотри: что это?!
Я смотрю видеоряд: склеить кадры невозможно. Линия съемки нарушается почти везде, крупность набрана неверно: общий план вообще всего один, соцработник снята как-то странно: и не поймешь, кому она рассказывает... На Диму совсем не похоже, но мало ли, с кем не бывает?
Леха поглядывает на меня с опаской: ждет, что я стану защищать оператора. А я вдруг, неожиданно даже для себя самой, говорю:
– Охренеть! Руки бы за такое отрывала!
Леха смотрит на меня с изумлением:
– Да ладно...– тянет он,– сейчас поколдуем.
Леха открывает окошко с эффектами и зеркально разворачивает нужные кадры. Лица стариков при этом принимают немного странное выражение, но тут уж ничего не поделаешь. Мне даже нравятся такие фокусы, я смотрю на это с интересом. Единственное, чего не исправишь,– отсутствия общих планов, и один-единственный имеющийся мы повторяем трижды.
Пока Леха клеит, я смотрю текст.
– Знаешь,– говорю я,– можно убрать кусок начитки.
– Зачем? – спрашивает он.
– Чтобы видеоряда хватило.
– Хватит. Я на финал два плана прикопал.
Мы уже мирно беседуем, и тут в дверь заглядывает Дима. Я оглядываюсь только для того, чтобы убедиться, что пришел именно он, и снова смотрю на монитор.