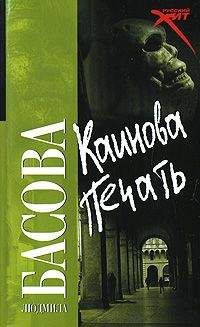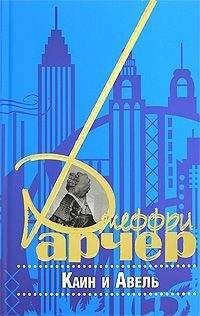– Ты чего это? – изумился Витя.
А она:
– Ой, Витек, тебе счастье, кажется, привалило. Вот, думаю, хоть дотронусь до счастливчика, самой, может, чуток откуда-нибудь перепадет. Меня бабка так учила. Усыновит тебя, как пить дать, усыновит эта, инспекторша. А муж-то у нее хирург, главврачом в госпитале работает. – И тут же усомнилась: – Может, конечно, он и не разрешит. Серьезный мужчина…
– Зачем ей усыновлять меня? – спросил Витя. – Она сама-то уже старая. Да усыновляют здоровых и возрастом помладше. Все так говорят.
– Оно, конечно, так, – согласилась Нюся, – да ты оказался похожим на сына ее единственного, которого фашисты в газовой камере сожгли. Так что, может, на его горьком горе выпала тебе счастливая карта.
Нюся, санитарочка совсем молоденькая, незамужняя, да и перспективы выйти замуж у нее вряд ли были – женихов на войне перебили. Нас жалела, за лежачими ухаживала, не брезговала и за Витьку порадовалась искренне. А он, гляжу, призадумался, вроде как стал маяться ожиданием. И дождался – пришла инспектор с гостинцами к нему, села на табуреточку рядом с кроватью, опять называла ласково Левушкой, ногу просила показать, потом про семью стала спрашивать. А моя койка рядом, я все слышу, как он рассказывает: отец на фронте погиб, мать патруль немецкий застрелил, когда она после комендантского часа пошла ему за лекарством. Так остался он один на свете… И вот тут глаза его светло-карие, отливающие янтарем, кошачьи глаза, затуманились, повлажнели от непролитых слез. Чувствовал я, что слова эти он уже про себя не раз проговаривал, в ожидании встречи, отрепетировал. И ничего о брате… Нехорошо мне стало. Вот ты, лейтенант, сказал, что Графова не ограбили, а вроде как посчитались с ним. Не знаю, как он жизнь прожил, но у предавшего дороги назад нет. Это я тебе точно говорю. Переступил черту – и все, Каинова печать на тебе. Недаром говорят: «Единожды предавший…» Так что, может, и было кому и за что с ним посчитаться, но тут уж я тебе не помощник.
Ни капитан, ни Анатолий Александрович не знали, что отрекся Виктор в тот момент не только от брата, но и от матери. Осужденная на десять лет, она была в ту пору еще жива, а умерла от истощения и непосильного труда на лесоповале в одном из Мордовских лагерей спустя три года после того, как Виктор станет жить в новой семье.
Нюся не зря высказала сомнение насчет мужа Розы Моисеевны, как выяснилось позже, так звали добрую инспекторшу Облздравотдела. Арон Маркович категорически возражал против усыновления чужого ребенка, да и не ребенка – подростка. Никогда за долгие годы семейной жизни, не было у них таких разногласий. Женились не по великой любви, сосватали родители, но притерлись, привыкли друг к другу. Детей не было долго, хотя никаких патологий выявить не удалось. Уже почти смирились, но Роза Моисеевна вдруг забеременела в тридцать два года. Роды были трудными, однако все обошлось благополучно. Мать так тряслась над малышом, что даже хотела оставить работу. Арон отговорил: не делай этого, ты потеряешь профессию, мы достаточно зарабатываем, чтобы нанять хорошую няню. Оба разом вспомнили про Авдотью Никитичну, тетю Дусю, тихую, добрую женщину, что много лет проработала санитаркой в больнице с Розой Моисеевной. Несколько лет назад у нее умер сын-алкоголик, сноха привела нового мужика, и тете Дусе ничего не оставалось, как уехать в свою деревню, где жила какая-то дальняя родня. Арон Маркович сам навел справки, разыскал Авдотью Никитичну в заброшенной холодной избе, увидел нищету и убогость, в которой жила старуха – да не такая уж и старуха, 60-ти не было еще, и сказал:
– Поехали, Авдотья Никитична, будешь мне сына нянчить.
И уж она нянчила, она пестовала Левушку, как родное дитя. Он и первое слово-то сказал не папа и не мама, а баба. Тетя Дуся и по дому старалась помочь, и прибраться, и сготовить чего. Одного лишь боялась: исполнится Левушке три годика, отдадут в садик и будет она не нужна. Нет, не отдали. Но вот уж в школу скоро Левочке – может, теперь отпадет в ней нужда. Да ничего подобного. Розенблаты и не представляли теперь жизни без тети Дуси, она незаметно стала не только для Левушки, а для всей семьи няней.
– Роза Моисеевна, – выговаривала поутру, – и куда же вы в ботиночках да в чулочках шелковых наладились, когда там снег пошел, а к вечеру морозить начнет? Нет уж, одевайтесь по погоде. Право слово, как будто вы не докторша, а дите несмышленое. И Арону Марковичу шапку зимнюю достать пора, шляпу-то ветер, гляди, снесет. Не мальчик ведь уже.
Когда Левушке исполнилось десять лет, поняла Авдотья Никитична, что никуда ей уходить не придется, что это и есть ее семья, в которой она будет доживать век.
Шел июнь 41-го года. Арону Марковичу предстояла защита кандидатской диссертации, Роза Моисеевна не знала, как быть с отпуском. Ее старшая сестра Фрида ждала их в Киеве, где уже вовсю цвели каштаны, а на рынках продавалась клубника и черешня. Фрида настаивала на июне, в июле у нее событие: невестка на последнем месяце. Хотелось повезти Левочку к родне, но и мужа оставить Роза Моисеевна никак не могла. Уехать и не присутствовать на защите? А кто будет устраивать банкет после блестящей – а в этом она не сомневалась – защиты? Нашли Соломоново решение: отправить Левочку с Авдотьей Никитичной, а уж самим на недельку приехать после защиты. Проводили до Москвы, усадили в купейный вагон, долго стояли на перроне, долго смотрели вслед набирающему скорость поезду. Тогда они впервые расстались со своим Левочкой, и, как оказалось, навсегда.
Уже после войны, по крупицам собирая сведения, Арон Маркович узнает, что Авдотья Никитична была с Левочкой до конца. Перекрестившись, вместе с Фридой, ее беременной снохой и сыном, не выпуская руки мальчика из своей, приняла смерть, никому не объясняя, что она русская. Левочка всегда считал ее родной бабушкой, и она даже в последнюю минуту не дала ему повод усомниться в этом.
А тогда, узнав о гибели сына, Арон Маркович пошел в военкомат. Его однокурсник, Володя Русаков, был назначен начальником санитарного поезда. Он попросился к нему. Четыре года Арон Маркович оперировал и под стук колес, и на долгих стоянках после бомбежки, случалось при свечах и керосиновых лампах, мог не спать сутками и совсем не боялся смерти. Его называли двужильным, он и был, оказывается, таковым. Если выпадала передышка, пил чистый, неразбавленный спирт и спал с медсестрой Люсей, бесшабашной, отважной девушкой на двадцать лет младше его. Он загонял и загонял свою боль вглубь и почти перестал чувствовать ее. Но странно – Арон Маркович и о Розе почти не вспоминал, оставив ее, убитую горем, в огромном пустом доме. Он написал ей всего один раз, когда Русаков был ранен в грудь. Пуля засела где-то в бронхах, Володя дышал со свистом, на губах выступала кровавая пена. Поезд продолжали обстреливать, ходячие раненые укрылись в лесопосадке, лежачих выносили на носилках. Арон прооперировал друга и начальника прямо на земле, на носилках, ассистировала ему Люся.
– Арон, – сказал ему Русаков, когда его отправляли в тыловой госпиталь, – ты гений. Я не представляю, чтобы кто-то другой в таких условиях смог так виртуозно вытащить пулю. Это было смертельное ранение и это был высший пилотаж.
Вырвав из блокнота листок, Арон нацарапал несколько строк:
«Здравствуй, дорогая Роза. Я жив и здоров. Не писал, потому что не был уверен, что письма дойдут. Мне тоже писать некуда, мы все время в движении. Целую. До встречи после Победы. Твой Арон».
– Вот, Володя, передай Розе, – попросил он.
Встретились они с женой все-таки еще до победы. Арон получил ранение в плечо. Пуля прошла навылет, не задев кость. Арон от обиды чуть не плакал: ранение было легким, но как хирурга надолго выводило из строя. Люся пошла его провожать. В сумерках они стояли на платформе, ожидая встречного поезда, на котором Арон должен был уехать куда-то в сторону Москвы. Дул холодный ветер. Люся ежилась в накинутой на плечи шинели, поднимала повыше воротник. Арон вдруг понял, что не знает, какие у Люси глаза, вообще – какая она внешне, он не видел ее без белой косынки, он вообще не смотрел на нее и сейчас испугался, что забудет ее совсем, не узнает при случайной встрече и это будет черной неблагодарностью за ночи их редкой близости, за то, что всегда стояла по правую руку, когда он оперировал, понимая его с полуслова, а то и вовсе без слов, за эти слезы, наконец. Взял ее лицо ладонью здоровой руки, повернул к свету тусклого фонаря. Удивился: она же красавица! Сказать ничего не успел, да и нечего ему было сказать. Это Люся сказала, впервые назвав его на ты и без отчества: «Арон, если бы твое сердце было таким же чутким, как твои руки…»
Сердце, действительно, словно окаменело. Он перешагнул порог своего дома, не испытывая ни радости, ни волнения, и нашел его в полном запустении. Роза подурнела и постарела чудовищно. Она никогда не была красавицей, хороши были только черные, бархатные глаза – теперь их почти не видно за толстыми стеклами очков. Нос на похудевшем лице казался еще больше и как-то уныло повис, выпирали крупные верхние зубы, кроме того, она так ссутулилась, что стала меньше ростом. Арон почувствовал нечто вроде угрызения совести – оставил жену один на один с горем. Она не смогла, как он, загнать боль внутрь, сжиться, смириться с ней. Он пытался быть нежным – у него это плохо получалось. Хотя рука еще болела, потихоньку начал приводить дом в порядок, намеренно втягивая Розу в хозяйственные заботы. Когда жена уходила на работу, напоминал ей, что она врач и выглядеть должна соответственно – дома она не вылезала из заношенного халата. К ее приходу готовил обед, покупал бутылку водки, но выпивал ее один, у Розы было стойкое отвращение к спиртному. Так они жили, привыкая заново друг к другу, а через три месяца позвонил Володя Русаков – его недавно назначили заведующим облздравотделом.