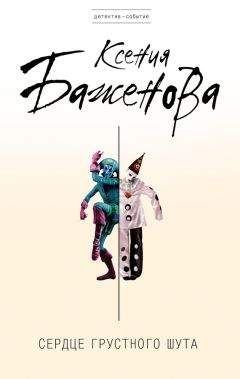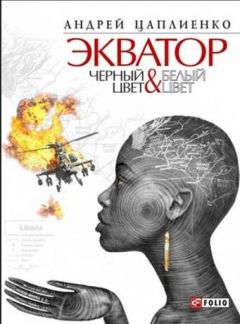«Страшная ночь, дорогой мой друг! Пока Симеон бормотал слова свои, показалось мне, что стены раздались вдруг, и ледяной струей обдало с головы до ног. И полоснул ветер по темным углам, и погасли свечи.
– Поднимись! – услышал я родной голос.
Медленно достал я платок и вытер холодный пот со лба. Повернулся. Тихо было и темно. Полная луна лила свой белый свет. Оглушенный и завороженный, я не сразу с мыслями собрался, все всматривался в прекрасное лицо жены, которая казалась при этом свете просто спящей.
«Чувствуешь ли ты, ангел мой, что я рядом, что плачу по тебе? – думал я, вперив глаза в ее лик. – Как могла ты оставить нас так внезапно? Меня, наших девочек? И как нам жить со знанием таким? Что случилось, драгоценная моя Мария Афанасьевна? Кто виноват, что душа твоя к злому обернулась? И кому молиться за спасение ее?»
Я содрогнулся от рыданий и увидел, как в расплывающееся от слез окно влетают светляки.
– Петя! – снова услышал я ее голос. – Похорони меня в «ведьминой канаве», что у нового колодца.
И вдруг лежит опять покойница холодная и неподвижная. Словно и не было ничего. Только ветер гудел. Тут и псаломщик пришел, подивился, что свечи не теплятся, зажег их, перекрестился да принялся читать по усопшей.
Ошеломленный, я долго еще стоял у образа, перебирал свои горькие мысли. Не поверил все-таки я ни тому, что своими глазами видел, ни тому, что своими ушами слышал. Ну как можно было поверить, что моя Мария Афанасьевна – суть настоящая ведьма?! Да невозможно в это поверить никак! Весь вред для сознания, верно, шел от микстуры, которую ты мне дал. Да, что пасечник? Старик, выживший из ума. Мало ли ему что по старости, от невежества да от слабости глаз привидится! И как же я могу похоронить ее вместе с ведьмами? И не их ли черепа видел я во сне? Все дьявольские шутки! Господи! Помоги мне не потерять разум и ясность мысли! Наконец, помолясь за душу усопшей и собравшись с духом, я поцеловал ледяной лоб и вышел вон.
Сам же я ясно понимал, что вступаю в новую, неведомую жизнь. Я поднялся к себе, сел к секретеру, достал бумагу, придвинул чернильницу. Эти простые, домашние, повседневные жесты придали немного порядка тревожным внутренним монологам. Я принялся писать священнику, приставу, тебе и камердинеру распоряжения о похоронах и дальнейшей жизни дома, особо я выделил место захоронения и настоятельно просил это уважить.
Поставив точку, я уже знал, что пути назад нет, что я обрек себя и девочек на унылую, одинокую жизнь, на презрение всего уезда. Знал, что надеваю в сию минуту пожизненные духовные вериги. И даже представилось вдруг, что я – один из могильщиков, и испытал на мгновение их страх, страх роющих в колдовском месте землю, их недоумение, их же подтверждение: да где ж ее, ведьмачку, еще хоронить, знамо здесь, в «ведьминой канаве».
Вспомнил, как много лет назад после сильной грозы вода, подмыв берег, образовала глубокую воронку, и к моему деду приходил попик с прошением оградить это чудо природы – новоявленный колодец – заборчиком, чтоб никто худо себе не сделал в темноте или в подпитии. Вспомнил еще разговоры разные, что там казнили ведьм и что кровь их еще в колодце волнуется.
Затем, помолившись, пошел в комнату жены, затеплил лампадку у иконы и сел, почти задремал, а потом увидел ее сидящей в кресле. Не испугался, только чувство вселенской жалости к ней, к себе, к дочкам увлажнило глаза, защипало, закрыло их на мгновение. С бьющимся сердцем присел я на край ее кровати и ждал, что будет. По комнате шел дух тления, и отвратительный дух этот никоим образом не соответствовал тонкости черт бледного лица и белому платью Марии Афанасьевны.
И тогда я зарыдал, спрятав лицо в ладони и в полной мере осознав, что не стало жены, только платье ее подвенечное, что приготовили по моему приказу надеть ей завтра в гроб, лежало на кресле. И тогда я решил: после похорон позову слуг, чтобы убрали чисто ее комнату, забили окно и дверь заложили.
Шумом ночных деревьев стояла в комнате жалоба призрака, и сильный страх этот передался мне. А вдалеке голосили бабы. И я, закрыв окно, вышел, готовый принять удары судьбы».
Прочитав это письмо, я, как был в халате, поспешил к другу. Он еще не встал, и я, присев на край кровати, пощупал пульс и попросил его попытаться говорить, но из горла бедного Петра Николаевича выходили только клокотание и хрипы.
– Друг мой, я прочитал ваше письмо, прошу, умоляю, заклинаю, не хороните ее в том месте, можно найти другое, вблизи колодца, так мы соблюдем приличие и последнюю волю Марии Афанасьевны. Вы согласны со мной?
Он утвердительно кивнул.
– Вы еще не отдали указания управляющему?
Кивком головы он дал мне понять, что письмо лежит на секретере. Я нашел его и уничтожил сразу:
– Я поеду сейчас туда и сам найду хорошее место.
Владимирский благодарно сжал мою руку.
Глава 9. История
Москва, весна, два года назад
Две недели Лиза работала как одержимая, она должна была знать все или, как говорила себе, «более чем все» об усадьбе. Были получены необходимые пропуска и пароли, проработаны большие архивные пласты. Украшением этой работы стала горсточка названий и имен: Болотное, Низкое, Антония Орсини, Василий Болотов, Холмы, Заозерка, Владимирские, бояре, крестьяне, дворяне, купцы, переписи, пустоши, погосты, грамоты, селения, далекие темные века Ивана Грозного.
Этот список назывался теперь «мое новое ожерелье». Сидя за компьютером, Лиза разбирала свои полеты во времени и пространстве, стараясь нанизать драгоценности на нить, уже зная, что скрепляющим замком будет она сама, и сердце замирало от желания, скорее, скорее… Ее затягивало в воронку ею самой придуманной судьбы, и никакой здравый смысл здесь не спасал. Уже по складу своего характера Лиза не могла быть просто архивариусом: каталожная карточка, документ, справка, подпись превращались в живые картины ушедшей жизни, и она их проживала в своей душе. Распирающая ее фантазия быстро сооружала и надувала разноцветный монгольфьер, и он уносил через века вспять истории, и она пьянела от красоты, открывшейся перед ней.
Так, однажды в музеях Ватикана в галерее картографии к ней подошел служащий и поинтересовался, хорошо ли себя чувствует синьора; оказалось, что она простояла перед средневековой географической картой более часа. Она там жила!
Состояние у карты, которую она рассматривала сейчас, вновь было воссоздано ее внутренним чувством, и с высоты птичьего полета уже было видно, что там, на краю болота, стоят избы, и это Низкое, а к северу от него в огромной котловине темно-зеленым пятном раскинулась труднопроходимая трясина, и вон там, где камыш и пушица, хоронятся страшные зыбуны. Перед болотом песочной змейкой вьется оживленная дорога… Лиза включила свою «внутреннюю анимацию», и поехали повозки, брички и кареты; в церквах ударили в колокола, и крохотные людишки поспешили к своим делам, кто в хлев, кто на покос, кто бунтовать.
Открыв электронную версию писцовой книги, она читала описи, и некоторые строки воспламеняли ее воображение. Она как бы видела царского писца, кривобокого, сухонького, колесящего по земле в санях или верхом. Как зеницу ока бережет он сундучок с бумагой и чернилами; записывает все, что видит (не считает «женские» души – не велено): погосты, селения с церквами и без, пустоши, крестьянские и бобыльские дворы, вотчины бояр, урочища. Вот он свернул с тракта на юг и поскакал в селенье Холмы: будто гигант, копая болото, набросал кучи земли через дорогу. В глубине всхолмленной чаши заголубело озеро, на низком его берегу встало богатое поселение Заозерка с хозяйственными постройками, хоромами хозяев, людской избой, амбарами, житницами, клетями, сенниками, конюшенным и скотным дворами, а подле – деревянная шатровая церковка в честь Николая-угодника Заозерского. А на увалистых холмах чудо – леса с разнотравными полянами; душ холопских почти с дюжину; хорошее место, прибыльное для налога царского. Все это надо было подробно описать. Пришлось писарю работать долго, допоздна.
А под утро, с рассветом, поскакал он на север в Низкое, хотя и говорили ему, что нехорошее время выбрал для этого путешествия, только лето началось, еще не просохло болото, и много опасных мест; но уже столько лет исходил он по земле, что стал настоящим следопытом, собирателем царского богатства, дошел, не сбился. Да и сельцо не в самом болоте стояло, чуть поодаль. Так себе сельцо, не богатое, земля, правда, вокруг урожаистая, плодоносная; а все покосные луга за ближайшим монастырем закреплены. Туда ему на обратном пути завернуть надобно обязательно. Уже при лучине дописывал он последние строки, декламируя их вслух: