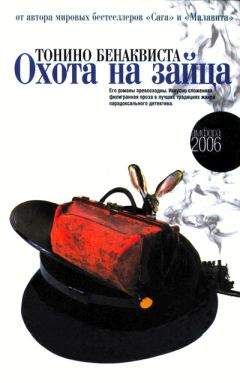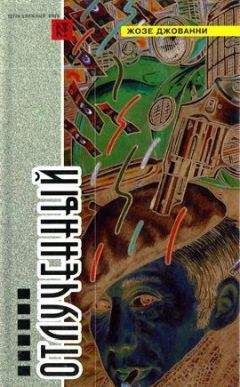Бразильский видеосериал: двое чопорных любовников собачатся между собой в гостиной.
— Как закончится, будет выпуск новостей, и все, можно подавать на стол. Соус и макароны окажутся готовы точно в одно и то же время. Пятнадцать минут. Вы все запомнили?
Сам того не замечая, я грыз тем временем люпины, и теперь передо мной возвышается целая горка кожуры. Нервным движением отправляю в рот еще несколько штук. Нет ничего хуже заглушать голод этой дрянью. Настоящая зараза.
— Остерегайтесь проклятья волчьих бобов, Антонио. Говорят, что, когда Христос спасался от фарисеев, он спрятался на люпиновом поле. Но ведь стоит только потрясти ветку люпина, и гром стоит, как от колоколов. Вот фарисеи сразу его и нашли. И он тогда сказал: пусть всякий, кто съест один-единственный из этих бобов, вовек не сможет насытиться. Так что ешьте лучше оливки.
Нахожу ее все больше и больше очаровательной, с ее кухней, рецептами и всеми этими сказками и легендами.
— Но ведь с оливками было то же самое…
— А вот и нет. Христос как-то раз спрятался в оливковой роще. А поскольку ствол у оливы внутри пустой, то никто его там не нашел. И он за это благословил оливу.
Коли правда — обручусь, а неправда — то женюсь. Еще не хватало. Можно подумать, что Христос был такой трусишка.
— Ваш рецепт неплох, но у меня нет телевизора.
— Тогда сидите на бобах.
Тут моя тарелка наполняется горячими макаронами. Объедение. И обжигание. Всегда опасался девушек, которые умеют так готовить.
— Скажите, Бьянка, а сколько вам лет?
— Я с шестьдесят первого.
— Не верю. А месяц какой?
— Сентябрь.
— Да ну? А число?
— Первое. И я очень этим горжусь. Если хотите еще точнее, то в три часа дня.
Невероятно. Я старше ее всего на каких-то четыре часа. Это совпадение смущает меня до такой степени, что я уже другими глазами смотрю на свою хозяйку. Первое сентября, говорите?
Наши истории, хоть и такие разные, уже столько раз переплетались. Она здесь, я там, все наши детские свидания, вехи, надежды, вплоть до наступления совершеннолетия. Словно мы прокрутили наши жизни задом наперед, чтобы найти друг друга сегодня вечером. Если бы я родился здесь, в двух улицах от ее дома, мы бы встречались с ней тысячи раз, но наверняка ни разу не поговорили бы по-настоящему.
Между нами воцаряется нежное молчание, которое мы поддерживаем робкими взглядами. Я даю себе клятву, что, прежде чем вернусь во Францию, она окажется в моих объятиях. Но сегодня вечером мне не хватает духу. Вскоре я оставляю ее наедине с пустыми тарелками. С глазами, наполненными одиночеством.
*
Некто рыщет по округе. Ночами. Некто — это я. Мне нравится моя роль хозяина. Но сегодня вечером я твердо решил кое с кем потолковать по душам. С этим Анджело. С этим ангелом, у которого такой суровый взгляд. Может, он скажет мне, наконец, где тут что зарыто?
Дневное небо черно, ночное тоже.
Как это грустно, все видеть в черном…
На этот раз слепому не удалось застать меня врасплох. Я-то знал наверняка, что он сюда притащится. Вот песня его и выдала. Говорят, у слепых тонкий слух. Может, это и так, но наверняка на трезвую голову. Когда же они пьяны в стельку, то не слишком отличаются от остальных — такие же тупые, крикливые, не желающие ничего замечать. Я подкрадываюсь к бочке, где он устроил себе пристанище на ночь. Фальстаф с остановившимся взглядом.
Вот он лежит. Раздутое брюхо выпирает, как бурдюк. Ощутив мое присутствие, он застыл на мгновение. Мне даже удалось поймать его взгляд без очков. Он обвел своими незащищенными глазами окружающее пространство, и я подумал, что сейчас он будет долго шарить по земле в поисках очков, но они очутились у него на носу в мгновение ока. Я приблизился к нему почти вплотную, в полной тишине. Он не замедлил приложиться к своему кувшину с вином. Без сомнения, у него в голове сейчас такой туман, что он не приметил бы и целый полк с оркестром.
Я подошел к нему как можно ближе, чтобы действовать наверняка и предстать перед ним внезапно и неумолимо, — как безжалостный воин над поверженным врагом.
Он опустил свою бутыль и опять загорланил:
Однажды пришел человек,
Он тоже был черен
И он мне сказал…
И вдруг он резко швырнул свою бутылку, чуть не угодив мне в физиономию. Если бы я вовремя не увернулся, иметь мне сейчас одним глазом меньше. В каком-то смысле это пошло бы мне на пользу, раз навсегда отучив подглядывать.
— Кто он был такой, этот человек? — крикнул я так неожиданно, что он вздрогнул.
Словно перебитый пополам дождевой червяк, он начал крутиться вокруг себя, пока не наткнулся на дерево. Несколько секунд испуга, пьяных причитаний, и я разобрал наконец, что он просит не бить его.
— Я знаю, что это вы! Француз! Вы говорите как француз!
— Так кто он был такой, этот человек, который обещал тебе золото?
— Я никогда больше не буду пить ваше вино, клянусь, только не бейте меня!
Я подобрал миску, валявшуюся в углу, наполнил вином до краев и осторожно приблизился к нему.
— Можете выпить хоть все вино, какое только здесь есть, мне на это плевать. Вам это сам хозяин говорит, так что валяйте, пейте.
Привыкший получать взбучку всякий раз, как ступит сюда ногой, он не верил мне.
— Пейте! — приказываю я ему.
Больше он не заставляет себя упрашивать, но не думаю, чтобы он воспринял это как поощрение, и он прав. На уме у меня совсем другое — чем сильнее он опьянеет, тем скорее я сумею вытянуть из него, что тут нечисто в моем королевстве.
— Кто он был такой — этот богатый человек?
— Что вы тут все ищете, на этой земле? Чего вам надо, французам, вы тут не у себя дома…
Он снова приложился к вину, уже без принуждения. При слове «французы» я понял, что напал на верный след. Его песня заинтриговала меня еще с первого раза. В сущности, это был некий итог его жизни. Плач, причитание о чем-то, что свербит в его душе подобно угрызению совести. И снова я задаю ему вопрос о том человеке и его золотых посулах.
— Значит, он был французом, как и я?
Он кивнул головой, и мое сердце подпрыгнуло в груди.
— Знаете, ведь он был моим другом… Он обещал вам денег?
— Слишком много денег… И еще одну вещь… даже лучше денег. Не заставляйте меня думать обо всем этом, пожалуйста, дайте вина… он был единственной удачей в моей жизни…
— Чего он от вас хотел? Говорите!
— Хочу вина…
Он расплакался, и я вдруг почувствовал, что он близок к признанию. Но у меня возникло также подленькое ощущение, что больше он не скажет ни слова в эту ночь, несмотря на все свое опьянение, несмотря на все свои слезы. Но об этом и речи быть не может. И я с ненавистью сжал кулаки. Мне вспомнился его панический страх перед побоями. Стиснув зубы, я ударил его по лицу тыльной стороной ладони. Движимый приступом ярости, подкатившим к горлу, я снова замахнулся, чтобы влепить ему следующую затрещину, но благодаря какому-то непостижимому рефлексу слепой сумел увернуться, и моя рука наткнулась на дерево.
При первых проблесках зари слепой заснул.
Всю свою жизнь я буду помнить эту ночь.
Я видел человека, дошедшего до крайней степени опьянения, охваченного огнем, горящего желанием высказаться наконец и рассказать все о себе, о мире, заливавшего это пламя полными стаканами вина. Я слышал голос существа, освобождающегося наконец от последних пут сковывавшей его тайны. Такого рода откровения нельзя выслушивать просто так — спокойно. Тут уж никто бы не смог устоять, даже священник. А в данном случае — особенно священник. Я тоже не выдержал и принялся пить вместе с ним, чтобы хоть как-то продержаться до конца.
Потом он вдруг рухнул замертво. Прямо мне на руки. Никогда не подозревал, что человек может таить в себе столько всего, чем можно облегчить душу. Я встал, желая поскорее добраться до своего пансиона и все забыть. От такого количества слов и плохого вина в голове шумело. Мне казалось, что я увязаю во влажной земле, что я тону и что никто никогда меня здесь не найдет. Я сжимал кулаки, чтобы меня не вырвало, какие-то бесформенные образы теснились у меня в мозгу. Почему-то вспомнился отец, и тут уже все перемешалось — его жизнь, моя, словно я вынужденно цеплялся за эти воспоминания, чтобы не уснуть.
…А в ноябре сорок третьего года все вдруг полетело к чертям. Нас собрали всех, сколько там было у подножия холма, чтобы объявить что-то важное. Представляешь? Семьдесят тысяч человек, напуганных тем, что их сбили в одну кучу. Фашисты и немцы тоже там были. И вот один офицер взял слово и обратился к нам с вершины холма. Он сказал: перемирие с греками подписано! В общем-то, мы это восприняли как добрую новость, но только сначала, пока он не объявил: а теперь спасайся кто может! Да и то мы не сразу поняли, что он этим хотел сказать. И лишь когда из-за холма выскочили автоматчики, мы начали задавать себе вопросы. Но ответить на них не успели, потому что те начали поливать нас сверху огнем. Два года мы проторчали в этой стране, но ни одного противника, ни одного боя в глаза не видели. А тут надо было такому случиться, чтобы по тебе палил как по кролику, свой же брат-итальянец! Но при всем при том самое плохое было… знаешь что? Ни за что не поверишь. Грустно такое говорить, но мы вдруг почувствовали себя так, будто осиротели. Другого слова не подберешь. Само-то итальянское государство из этого выпуталось, а вот нас бросило на произвол судьбы. Словно отец ушел из семьи и оставил своих малышей. Это уж точно… Мы были свободны и вроде как демобилизованы, но тут-то и началось самое худшее. Сперва мы попытались добраться до портов, хотя и знали отлично, что никакие корабли нас там не ждут и везти домой не собираются. Фашисты и немцы, те продолжали войну, какую именно — я, правда, так и не понял, но все остальные, мы то есть, имели право вернуться. Но не могли. Тогда-то нам в первый раз и повстречались албанские партизаны. Мы пытались говорить на их языке. Мы им даже симпатизировали. Я отдал им свое ружье. Уж они-то знали, что с ним делать. По крайней мере они сами так говорили. Кстати, хорошо сделал, что отдал, а то, если бы пожадничал, может и не сидел бы сейчас здесь, не рассказывал все это. Мундиров у нас тогда уже не было. А тут и зима настала.