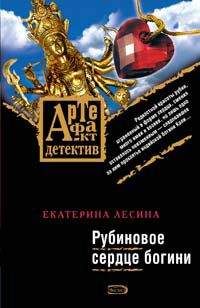В такие дни Жан никак не мог согреться. Ни огонь, пылающий в камине, ни горячее вино, сдобреное травами, ни настойки старой ведьмы, обитающей в окрестностях замка, не унимали ломоту в костях. И де Вим мечтал о солнце. Бредил солнцем.
Получил.
Комок света, застрявший на небосводе, издевался над северянами с их по-рыбьи белой кожей, светлыми волосами и неспособностью устоять перед яростным напором солнечных лучей.
И кто додумался назвать эту землю Святой? Что в ней святого? Проклятое место. Проклятый город. Сколько же крови пролилось вокруг равнодушных стен из желтого камня, древних, как сама пустыня, их окружающая. Сколько людей отдали свои жизни во имя Великих Святынь. Гроб Господень. Жан де Вим усмехнулся. Сей город стал гробом для сотен, тысяч, сотен тысяч ни в чем не повинных людей.
Почему так?
Они верили. Жаждали справедливости. Нет – много ли справедливости в убийстве, – люди жаждали заполучить это место для себя. Неважно, христианин, мусульманин или хитроумный еврей, помогающий и тем, и другим. Изгнать чужаков. Поработить. Убить. Кровью смыть нанесенное оскорбление…
Странные мысли посещают голову, когда за стеной, подобно сотне диких волков, завывает ветер. Опасные мысли, почти такие же опасные, как и сам город.
Иерусалим.
Клочок пустыни, отмеченный Господом. Говорят, когда-то здесь было красиво. В садах произрастали чудесные деревья, привезенные со всех уголков мира. Райские птички услаждали слух песней, дикие животные разгуливали по улицам, совсем как в Святом Писании сказано. Лев и ягненок. Тигр и лань. Волк и человек. Эдем воплощенный. А на рассвете, когда первый луч солнца касался золотых стен, в город спускались ангелы, и воздух пел, восславляя Создателя.
В Иерусалиме царил мир.
А теперь война, нет ни садов, ни райских птиц, одни трупоеды вокруг. И день и ночь кружат в небе, высматривают, твари. И не коров же дохлых, не коз, человечину им подавай! А что, здесь хватает, почитай, каждый день кто-то да помрет.
Всюду смерть, точно сама пустыня ополчилась против несущих крест. Скорпионы, заползающие в шатры, ядовитые змеи, невыносимая жажда, когда в голове остается одна-единственная мысль – добыть воды. Хоть каплю, хоть полкапли, но добыть, продлив агонию на минуту. Чертовы сельджуки[12] засыпали часть колодцев, а другую часть отравили. Де Вим собственными глазами видел, как кто-то из комитов, и не мальчишка, а старый солдат, украшенный сединой и шрамами, сходя с ума от жажды, отпил из такого колодца. Ужасно. Он кричал, словно адский огонь разъедал его тело, руками раздирал горло, а изо рта шла пена. Тот воин долго умирал, и никто, никто из людей, столпившихся вокруг, не осмелился прервать агонию.
Его и похоронить-то толком не сумели – земля твердая, точно камень, но это не камень – песок, расплавленный солнцем и слипшийся в одну чудовищную глыбу…
– О чем думаешь? – нарушил тишину Одо де Фуанон. Рыцарь отличался угрюмым нравом и имел лишь две слабости – красное вино, которое, по слухам, ему доставляли с тех же виноградников, что и папе римскому, и огромный меч, выкованный им собственноручно. Люди, лично незнакомые с Одо, посмеивались, что де негоже благородному марать руки в кузне, но те, кто имел честь сражаться бок о бок с ним, на всю жизнь проникались уважением к его мечу.
—А о чем тут думать можно?
– Ишь, разошелся нынче. Воет и воет, воет и воет, спать не могу. Мысли всякие в башку лезут. Эх, не к добру это, когда опоясанный рыцарь думать начинает, ему сражаться положено. А языком пускай попы чешут, это у них хорошо получается. Слышал небось, как епископ вчера вещал?
—Слышал, – неохотно отозвался Жан. – Красиво.
—То-то и оно, что на словах красиво выходит. Вроде и правы мы, что воюем за святое дело, за Гроб Господень. Освободили святыню из грязных лап сельджуков, только…
—Крови много? – догадался де Вим.
– Много. Устал я, чую, недолго осталось, потому и пришел. Дочка у меня осталась. Маленькая. Хотя, наверное, уже большая, это когда я уезжал, она только-только ходить начала. И как я кроху такую бросить решился? Подвигов захотел. Богатства… А теперь помру, и некому будет даже помолиться за мою грешную душу…
—Брось, не помрешь. Скольких ты пережил?
—Многих. Слишком многих, чтобы теперь спокойно спать по ночам. Приходят они ко мне. И де Шапп, помнишь, в первый же день стрелу поймал? И Умбер, которого змея укусила, и Дампьер. Так много их было… Все умерли, а я живу. Зачем?
– Это ветер. – Жан попытался успокоить друга и себя заодно. К нему тоже приходили, друзья-соратники, просто знакомые, пытались сказать что-то очень важное. Но мертвые губы не издавали ни звука, и призраки отступали, освобождая место для новых. И Гюи де Шапп приходил. Улыбался, руками махал, а из глаза стрела торчала, тонкое древко, белое оперение, и три красных пятнышка. А Умбер со змеей явился, обвилась удавкой вокруг шеи и дразнилась, язычок раздвоенный то высунет, то спрячет, а красные, как солнце на закате, глаза глядели насмешливо. Де Вим сначала просыпался в холодном поту, пил вино, бродил до рассвета, прислушиваясь к невнятному бормотанию ветра, а потом ничего, привык, даже разговаривать с гостями начал. Странные выходили беседы: он говорит, а покойники только рот разевают. Нельзя им, видно, о рае рассказывать.
Епископ клялся, что все, кто в Крестовом походе голову сложит, попадут в рай, как же, сам папа Урбан II призывал к великому походу. И Жан верил. Верил из последних сил, тщетно пытаясь понять, отчего в глазах мертвых друзей застыла такая тоска, отчего никак не упокоятся мятежные души, не оставят в покое живых. А еще, вспомнил рыцарь, кровь на них. У кого совсем чуть-чуть, у того же Гюи только три пятна на стреле, а у некоторых вся одежда в крови. И руки…
—Тоже видел? – догадался де Фуанон. – Их многие видят, только молчат. Боятся. А нам с тобой бояться уже нечего. При Дорилее[13] выжили, Иерусалим взяли[14], Хайфу, Арсур, Кесарию, Акру[15]… Да разве все упомнишь. Живы. Торчим посреди песков, чего ждем – непонятно. Да и старые мы, чтоб каких-то мертвяков боятся, живые, они пострашнее будут.
—Что им надо? – Ветер притих, точно прислушивался к беседе.
—Предупредить хотят.
—О чем?
– А ты разве не понял? – Рыцарь погладил любимый меч. И охота ему такую тяжесть таскать. Пришел тут, спать не дает. Волна раздражения накатила внезапно, но и схлынула быстро. Прав Одо, ой как прав, давно понял Жан, о чем же хотят предупредить мертвецы. Понял, только признаться боялся. Даже себе.
Не убий – шептали мертвые губы де Шаппа.
Не убий – шипела змея на шее воина.
Не убий – сказал Господь. Нигде. Никого. Никогда.
И, несмотря на цветистые обещания епископа и гарантию от Урбана II, небеса отказались принять души, отягощенные кровью.
—Дело у меня к тебе, – повторил де Фуанон, – дочка у меня…
—Говорил уже.
—Одна осталась. Жена-то моя при родах Господу душу отдала. Кровью изошла, жизнь подарив, а знаешь, где хоронить ее пришлось? За оградой кладбища! Чертовы святоши! Грязная она, видите ли[16]. Не положено ее на освященной земле хоронить. И небо ей тоже не положено, в ад душа попала, вот что они мне сказали! Знаешь, какая она у меня красивая была… Нежная, хрупкая, точно ангел. И добрая. Ее все любили. А они сказали: в ад… Причастить даже не позволили! Я ведь сюда поперся, чтобы для нее Царство Божие добыть, думал, знают попы, о чем говорят. А когда мертвяки приходить начали, понял – ни черта, прости меня Господи, они не знают. Только делить и умеют – этих, значит, в рай, а тех в ад! – Одо грохнул кулаком по столу. – Ничего, выходит, путного я не сделал, только в крови перемазался по самую макушку. А девочка моя одна росла, в монастырь отдал святым сестрам на попечение. Сейчас вот каждый день мучаюсь, как там она, не обижают ли.
Рыцарь замолчал, задумавшись о чем-то своем. Де Вим не стал отвлекать друга. Пускай думает. Время от времени каждому нужно время, чтобы подумать, жаль, что времени этого никогда не хватает.
—Кое-что я все-таки добыл. Завезешь ей.
—Не понимаю.
—В городе чума.
—Что?
—Чума. Проклятый ветер принес чуму. Пятеро уже умерли. Пока всего пятеро.
—Наши?
—А какая разница?
Действительно, никакой. Черная смерть соберет дань со всех. Ей наплевать, какому богу ты молишься, на каком языке разговариваешь, какого цвета твоя кожа, рыцарь ты или крестьянин, забредший в пустыню с надеждой на лучшую жизнь. Проклятие.