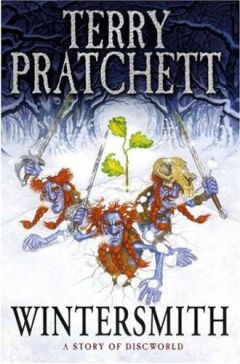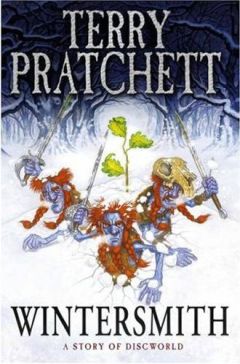– Выйди наверх, посмотри.
Скосив глаза вниз, Сашка увидел, что Дина раздумчиво водит пальцем по рубцам его свитера. И в этом, почти ничего не значащем жесте он вдруг ощутил и слабость женщины, и свою силу, и необходимость защитить ее от какой-то смутной опасности. Ему показалось, что только он может защитить, а другие и сами не прочь воспользоваться ее слабостью. Не колеблясь больше, он взял ее лицо в ладони, повернул к себе и посмотрел в глаза, будто хотел найти подтверждение своего ощущения. А когда наклонился, чтобы поцеловать ее, почувствовал на плечах ее руки.
– Сдавайся, – сказал он.
САШКА. Сдавайся, сказал я. Она ничего не ответила. Только уж очень испытующе посмотрела на меня, словно решала, стоит ли мне доверять. А потом кивнула. Ладно, мол, сдаюсь, если тебе этого хочется, но посмотрим, что ты дальше будешь делать. Уж больно торжественно она обставила все это. И не сказала ничего, и слова никакого не потребовала, обещания или чего там еще, что полагается в таких случаях... А получилось, что я вроде того что ответственность на себя принял.
Лет двадцать назад, помню, мне батя велосипед купил, но ездить на нем я не умел. Так, кой-как, на чужих, задрипанных, трехколесных... А тут стоит – ободья никелем сверкают, звонок такой, что и прикоснуться страшно, руль без единой царапинки. И рама незалапанная, и шины незаезженные... Поставил я его в сарай, сел напротив и смотрю. Пальцем трону и опять смотрю. Потом дохну на обод и слежу, как облачко на нем исчезает. И кажется, что если сесть на него, то носиться можно по всей земле и никто не угонится за тобой, и вообще...
С тех пор самый счастливый мой сон – я, пацан, в закатанных штанах, с глазами во все лицо, с тощими руками, припаянными к рулю, еду по тропинке. А она петляет, кружит между деревьями, кустами. Трава по сторонам, козы пасутся на цепях, петухи на заборах орут как полоумные. А батя, живой еще, что-то кричит мне, смеется, рукой машет, а я будто лечу над этой тропинкой...
Видел я этот сон раза три, не больше. И как начнется, я уже знаю, что дальше будет, знаю, что на тропинке увижу, когда петух закричит, когда батя на повороте покажется, и что он крикнет мне, тоже знаю. И такое от всего этого ощущения, что даже сравнить ни с чем. И сейчас у меня было примерно такое же настроение.
Что получается... В школе, в книгах, в плакатах на любом заборе тебе все время талдычат про какие-то высокие чувства, а ты между тем очень даже запросто убеждаешься, что все это блажь. Ну в самом деле, когда жизнь твоя порезана командировками, рейсами, путинами, когда люди, и женского пола в том числе, мелькают перед тобой, как карты в колоде... Так ли уж важно, дама это, шестерка, туз – рубашка-то у всех одинакова. Пестренькая, маскировочная рубашечка.
Ну, хорошо тебе с человеком, ну, переспал ты с ним, по душам поговорил, а утром-то тебя грузовик ждет. И гудят синим огнем в его крытом кузове три паяльные лампы, чтоб не замерзнуть по дороге. А ты кутаешься поплотнее в куртку из чертовой кожи, чтоб подольше сохранить тепло того человека, которого оставляешь в кровати, натягиваешь шапку на ходу и уже из машины посылаешь мерзлый поцелуй неясной тени в окне. А к обеду ни тебе тепла, ни воспоминаний. К обеду только дрожь в руках, да морда в испарине.
И вот-те на! Вдруг оказывается, что за всем трепом о высоких материях стоит что-то! Ты целуешь человека, а он между тем, может, смеется над тобой или примеряет тебя – годишься ли... А ты в страхе – не оплошать бы!
Возвращаешься в свое купе, ложишься на полку, а тебя будто ворочает кто-то, как шашлык на шампуре – неужели недоросток?! И где-то глубоко в тебе ворочается и просыпается существо незнакомое, но нравящееся тебе. А ты думаешь – не ты ли это сам? Не ты ли просыпаешься наконец от какой-то затянувшейся спячки? И понимаешь – что-то случилось с тобой, ни для спокойствия, ни для уверенности нет уже у тебя никаких оснований... А ты вроде бы даже рад этому.
ТАКОЙ УЖ ОН БЫЛ... Кравец боялся людей.
Он уклонялся от новых знакомств, а если уж избежать этого не удавалось, прежде всего прикидывал – какой вред может принести ему новый человек. Кравец никогда не рассказывал о себе и ни о чем не расспрашивал других. Он избегал всяких событий, которые могли хоть как-то потревожить его, даже не думая о том, несут ли они ему радость или огорчение. Людей он различал в зависимости от того, насколько большое зло они могут ему принести. Сам он зла на людей не копил, но была у него опасливая настороженность. Конечно, он верил, что есть хорошие люди, но полагал, что зло они могут принести, и не желая того. Человек живет по законам, не позволяющим ему вести себя, как он считает нужным, думал Кравец, а раз так, то любой может навредить невольно. Поэтому Кравец старался жить так, чтобы никому не подворачиваться под руку. Была у него, правда, еще одна причина жить именно так, но о ней он старался не думать.
На многие вещи Кравец имел четкое мнение, но не испытывал никакой необходимости делиться с кем-то своими мыслями. По складу своему Кравец не был равнодушным человеком, и в его уклонении от знакомств проступала настойчивость, в молчании было что-то вызывающее, а в манере разговаривать наряду с настороженностью уживалось достоинство.
Трое суток он лежал, почти не поднимаясь, и лишь изредка поздним вечером выбирался в тамбур выкурить сигаретку. А потом снова забирался на свою полку. Когда при дележке продуктов ему достались пирожок и бутерброд с кетой, Кравец вежливо поблагодарил, не спускаясь с полки. Пирожок он тут же съел, а бутерброд отдал Борису.
– Мне неудобно, – сказал он. – Это вашей жене. Ей сейчас нужно поплотнее...
А когда оргкомитет шел по вагонам, собирая так называемые «излишки продуктов», Кравец молча полез в свой чемоданчик и вынул литровую банку красной икры. Всю икру у него не взяли. Дина отложила половину, а остальное вернула старику. Кравец от возврата не отказался, но и прятать банку не стал.
– Вы не стесняйтесь, – сказал он Тане, показывая на банку. – В икре есть все, что вам сейчас нужно.
Таня, зная, что старик голоден, есть не стала. Только поздним вечером, когда Кравец сам открыл банку, тоже решилась подкрепиться.
– Послушай, батя, уж ты не заболел случайно? – спросил его Борис. – А то скажи... Может, что надо...
– Нет, спасибо. Я здоров.
– А то, я смотрю, ты все лежишь...
– Нет, нет, я здоров.
– Смотри... А ты где работаешь, батя? – Борис хотел как-то выразить старику свое участие.
– По линии быта, – быстро ответил Кравец, глянув из-под бровей маленькими синими глазками. И тут же заговорил о буране.
– А на Острове давно? – задал Борис вопрос, самый, казалось бы, естественный, и смутился, увидев растерянность старика. Чтобы загладить непонятный промах, Борис начал рассказывать о себе, о том, как привез жену из отпуска, сколько зарабатывает, сколько грибов они с женой собирают, чтобы хватило на год, рассказал, что Таня работает в столовой, что Остров, по его мнению, хорош еще и тем, что здесь можно не гнаться за тряпками...
– А не скучно? – спросил Кравец, чтобы как-то заполнить паузу.
– Нет, – твердо ответил Борис и повернулся к жене. – А тебе не скучно на Острове?
– Да некогда скучать-то...
– Вот именно, – Борис упрямо уклонил голову, будто ему сейчас предстояло доказывать это перед целой толпой. – Каждый должен знать свое место и не рыпаться куда не надо. И не суетиться без толку.
Слова у Бориса были солидные, обстоятельные. Послушав его из-за стены, можно было подумать, что произносит их человек пожилой, плотный, с тяжелым лицом и неторопливыми движениями. А на самом деле это был щупленький парнишка небольшого роста, с прямыми светлыми волосами. И щетина у него тоже была светлая, неуверенная.
Борис говорил, все больше волнуясь, перебивая самого себя, как бы признавая какую-то вину, но старался доказать, что он имеет на нее право. Он спешил, спешил, будто не успевал сказать что-то главное. Таня молча смотрела прямо перед собой, и непонятно было – то ли она вовсе не слышит его, то ли знает наперед все, что он скажет. Борис все время обращался к ней, и чувствовалось, что его сбивает с толку ее молчание.
– Извините, – сказал Кравец, – а образование у вас какое?
– Нет у меня образования! Нет. Ну и что?! Из-за этого я не могу с женой своей спать? Погоде хорошей не могу радоваться? Праздник не могу праздновать?
БОРИС. Это был наш старый спор с Таней, который будет теперь повторяться каждые три года – когда выдают деньги за проезд на материк. Мы и сейчас ездили туда только потому, что она этого захотела. Уйму денег оставили – вот и все. Ее старики до сих пор зовут нас на этот материк, работа, мол, интересная, театр, стадион...
А спросить у стариков – ели они когда-нибудь кетовый балык, икру красную, если, конечно, не брать в расчет наши посылки? Черта с два! А мы здесь едим эту икру столовыми ложками и вовсе не из консервных банок. Она идет у нас, как сало на Украине: готовить не хочется или некогда – принес банку икры, отрезал хлеба и ешь сколько влезет.