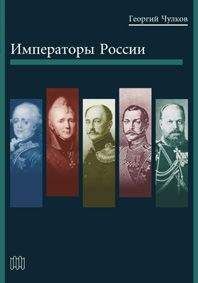Дядя впоследствии расхохотался, когда я рассказал ему ту историю и подтвердил, что его точка зрения полностью совпадает с моей, а сильное увлечение литературой Ф. Достоевского свидетельствует, как ему кажется, об определенном психическом нездоровье.
Тут надо остановиться и сказать, что психическое состояние общества в 60-70-ые годы и впрямь нельзя было признать совершенно нормальным.
Дядя, метко по-моему, говорил, что ситуация напоминает ему медведя, жившего у людей, выпущенного вдруг ими в лес. Сильный, но в неизвестной среде, он сначала удивляется, и даже радуется свободной природе, потом приходит непонимание как дальше жить, и злоба вымещается на что попадется под лапу.
Общество наше после смерти в 55-ом году императора Николая I, не столько обрело много свобод, сколько за несколько лет лишилось страха. И вместе с тем, как у того медведя в поисках неизвестно чего, началось искательство главных смыслов существования — жизнестроительных целей. «Шатанье умов во все стороны», — как обзывал это батюшка.
Надо сказать, политика Александра II давала многие провокационные побуждения для подобных шатаний. Новый государь очень любил начинать, но ничего не доводил до конца. Хуже того, во всех начинаниях чувствовалась смутность, неясность мысли самого автора, неясность не только для публики, но и для него самого.
Вместе с этим потеряла большое значение кастовость. И казалось бы — хорошо, но явилась волна новой публики, про которую Герцен из Лондона произнес знаменитую фразу: «лакейская, канцелярия, казарма». Это в том смысле, откуда явились активные новые люди, вернее — в какой именно обстановке они выросли, впитав от своих родителей минусы и пороки малодостаточной, требующей постоянных уверток жизни. «Ничто так не развращает как бедность», — сказал кто-то из французов. Фраза циническая, несправедливая своим равнодушием к причинам вынужденно-несчастливой жизни миллионов людей, но, увы, гротесково-правдивая.
«Выживание» — не лучший способ формирования личности, и наследственность в этом смысле у многих была дурная.
Явился тип «нигилиста», рожденный Тургеневым через героя его романа Базарова. Тут обязательно надо заметить, что Базарова Иван Сергеевич писал как героя трагического, выражавшего, так сказать, безбудущность той молодежи, которая исповедовала грубый материализм, атеизм, относительность вся и всего, а главное — непризнание истин, и в том числе истин моральных. Воспринят же Базаров был «на ура» — как положительный именно, и чуть ли не примерный герой нового времени. Имевший счастье быть знакомым через дядюшку с Иваном Сергеевичем, я сам был свидетелем его удивлений по этому поводу.
В студенческие годы я много общался с нигилистской этой средой, и отозваться должен не в ее пользу.
Прежде всего, за редким исключением, тянувшиеся туда молодые люди не были хорошо заметны в учебе и отличались ненужною легкостью мысли в серьезных вопросах. Вся их теория — а правильнее это называть психологией — была легковесной и неразборчивой. Мне в дискуссиях не доставляло труда очень простенько загонять их в угол: «Истин нет?» — «Нет» — «Это ваше утверждение истинное?» Беседы в таком роде приводили их в злое состояние, которое заканчивалось обвинением меня в «игре софизмами» или в чем-то подобном. Характерной чертой данной публики была именно ортодоксальность: убежденность в истинности их взглядов и аргументов — именно той истинности, существование коей они категорически отрицали.
Впрочем, некоторые из них забывали постепенно о своем нигилизме и выправлялись в хороших врачей, инженеров, юристов. Подозревая во многих такую вот эволюцию, я относился к господам нигилистам вполне снисходительно, чего, однако же, не чувствовал к себе в ответ.
Нигилизм, и шедший с ним под руку беззастенчивый прагматизм, вели себя откровенно диктаторски и сдвинули сознание многих в сторону быстрой наживы. Раньше, при императоре Николае I, средством к этому были взятки, да и то для определенной лишь части чиновного люда. Теперь открылись другие возможности, причем для очень и очень многих.
Наступило время концессий, то есть права использования государственных ресурсов с частною выгодой. В первую очередь оно касалось строительства и эксплуатации железных дорог, где правительство (а по сути — народ) несло убытки, а частные лица обретали доходы, переходившие, даже нередко, в богатства. Банки коммерческие стали быстро расти числом, и много при их помощи пошло «подковерного», причем с участием людей самого верхнего уровня, а также жен некоторых из них и даже любовниц. Далеко очень ходить за примером не приходилось, так как через несколько уже лет после начала своего правления Александр II обольстился княжной Долгорукой (стала позже титуловаться княгиней Юрьевской), которая получила большую неофициальную власть в вопросах ходатайства за чьи-либо денежные интересы — и не просто так, разумеется. Да и сам Император держал часть своих капиталов в ценных бумагах тех же железнодорожных компаний.
Да-с, время наступило разбитное и довольно отчаянное.
При отце Александра II — Николае I, при этом, как его иногда называют, «жестоком фельдфебеле», кроме взяточничества и, как везде и всегда, бытовых преступлений, существовал только один вид афер: искусственное банкротство. Занималось этим почти исключительно купечество, а смысл заключался в том, что купец брал большие, насколько возможно, заемы через вексельные обязательства, а вскоре объявлял себя неплатежеспособным. Попадал он после этого в так называемую «яму», а в действительности — в скромные, но чистые и достаточные условия жизни под арестом, причем содержание его там оплачивалось кредиторами. Кроме того родственники могли передавать арестанту продукты (передавали даже вино) и вещи. В «ямах» среди арестантов процветала карточная игра, иные — что покультурнее — проводили время за чтением.
Новое время принесло уже более изощренные формы — выпуск ценных бумаг без их реального обеспечения, участие чиновников в финансировании компаний, членами которых они являлись иногда даже явно, фиктивные банкротства банков. Стали с регулярностью обнаруживаться фальшивые деньги и поддельные векселя, а преступники проникали уже в высшее общество.
Батюшка мой по всей этой совокупности новых явлений говорил: «Как выезжаю за пределы части, где у меня ясность везде и порядок, так ощущенье помойки является и растет». А вообще памятью он оставался на Кавказской войне, где дважды был ранен, и, помимо больших и малых боев, в перерывах между военными действиями, знакомился и общался со многими интересными и известными очень людьми.
Вот тут надо как раз досказать про Лермонтова.
Группа офицеров покинула после очередного приемного вечера дом Верзилиных, Мартынов, приблизившись к впереди идущему Лермонтову раздраженно, но сдерживая себя, произнес: «Я же просил при дамах не делать шуток в мой адрес». Лермонтов счел нужным ответить: «А если вам не нравится моё поведение, можете потребовать от меня удовлетворения». Сказал повысив голос, чтобы наверняка было слышно сзади другим офицерам.
Всё!
Мартынову некуда было деваться — требования чести сделали обязательным этот вызов.
Да, через день Лермонтов написал сестре письмо, где в сообщении о предстоящей дуэли ощущались растерянность и сожаление, но дело ведь было в его руках, и нет сомнений — Мартынов с радостью принял бы его извинения. Нет, на такой маленький и нравственно правильный шаг поэта никак не хватило.
Очень много сходного тут с судьбой Пушкина — фантастическое дарование, и вместе с ним: мелочность, злобность... зависть. Помню первый раз я услышал про эту зависть в разговоре батюшки с дядей — они сходились во многом и здесь их мнения тоже совершенно совпали.
«Большое в одном требует и всего остального большого», — сказал, подводя итог батюшка, потом за здоровье двух великих поэтов они выпили грузинского хорошего вина, к которому отец приучился на Кавказе и откуда выписывал его бочонками.
А суть их беседы сводилась к следующему.
Оба поэта ощущали слишком большую разницу между своим дарованием и местом, которое они занимали в обществе. И хотя оба имели знатные родовые корни, «в свете» ценились карьера с богатством. Лермонтов, в отличие от совсем малоимущего Пушкина, был наследником приличного состояния. Эти сведения стали привлекать к нему внимание барышень, которые прежде игнорировали юношу из-за его невзрачности. Да, оба были непривлекательны, и расхождение внешнего образа с богатым внутренним миром — красочным и красивым — превратилось больным местом двух великих поэтов. Видимо, статность и выразительная привлекательность Мартынова раздражала — но не вполне осознанно — Лермонтова, как и физический контраст между Дантесом и Пушкиным был неприятен последнему.