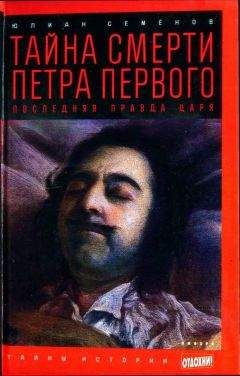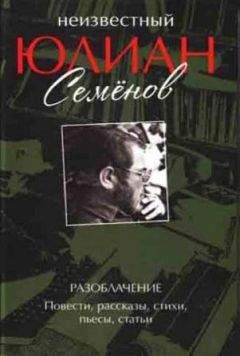— Мешают?
— Теперь нет. Когда поставила десять верных диагнозов, начальство сказало, чтобы разобрались, с той поры все в порядке.
— А в каком цвете вы меня видите? — спросил Степанов.
— Смотря что... Незажившая трещинка на черепе видится бледно-розовой... Те два ушиба, которые я ощутила, наоборот, темно-красные, видимо, там что-то осталось после гематом, а вот сосуды мне кажутся перламутрово-голубыми, хотя я точно ощущаю цветовую разницу между артериями, сосудами, венами, капиллярами... Вы берегите себя, Дмитрий Юрьевич, — как-то странно, без перехода, жалостливо сказала женщина, — у вас сосуды ломкие и очень поношенные... Не по возрасту...
— И курить, конечно, нельзя? — спросил Степанов.
— Если невмоготу — курите. Выпить хочется — пейте, значит, так надо, организм сам себя регулирует... Вот только стрессов избегайте... Сплющит сосудик — и все...
— А как их избежишь?
— Так ведь я не колдунья, я мало чего знаю, я только умею ощущать чужую боль и цвета чувствовать, понятно вам?
До чего ж хитрая, подумал Степанов; впрочем, хитрость не предательство; как правило, хитрецы не предают, чувствуя невыгодность самого факта предательства, — оно обычно рискованно.
...Апрельская Ялта была прекрасной и солнечной; белая оторочка последнего снега делана Крымский хребет задником гигантской декорации; рыбачьи кораблики, втиснутые в свинцовую гладь моря, казались нереальными, крошечными; там сейчас, подумал Степанов, склянки бьют, уху варят, музыку слушают и в кубрике спорят про то, кто выиграет — Каспаров или Карпов; какая разница, все равно свои, мы только чужим отдавать не хотим, а внутри Союза мы добрые...
— Мужчина, — окликнул Степанова на аэровокзале молоденький милиционер, — вы что, не видите, здесь хода нет!
Степанов даже зажмурился от ярости, вспомнил Танину Ивановну: «Пить — пейте, курите себе на здоровье, только стрессов берегитесь»; а это что ж такое, когда, вместо «товарищ» или, на худой конец, «гражданин», человек в форме обращается к тебе, словно к безликому предмету, — «мужчина»?! «Понятно вам?» — услышат Степанов интонацию Галины Ивановны, требовательную, атакующую, но в то же время снисходительную и всепонимающую: хороший врач должен иметь в себе что-то близкое к хорошему торговому работнику, который не тащит по-черному, а норовит — при всех неразумных и порою неконституционных ограничениях — сделать свою работу красиво и с выгодой для обеих сторон...
— Я вам не мужчина, — ответил Степанов, понимая, что остановить себя не сможет уже, столько т о в а р и щ е й погибло, не за себя сделаюсь страшно — за память.
— А кто ж вы, — удивился парень, — не женщина ведь...
— Я — «товарищ»... Или «гражданин»...
Степанов понимал, что этот дурак просто-напросто не берет в толк то, что ударило его и оскорбило; чего ж тут обидного, мужчина он и есть мужчина.
Ах, как сладостно было слово «товарищ» в Берлине сорок пятого; или во Вьетнаме — «тунжи», или в Чили — «компаньеро», пока не пришел Пиночет и слово «товарищ» стаю караться трехлетним заключением в концлагере, ведь оно — классово и исторично.
— Чему вас на политзанятиях учат, совестно, — продолжат Степанов, отдавая отчет, что говорит он не то, надо позвонить начальству, рассказать об этом, толковать же с этим типом — бесполезно...
— Это мы знаем, чему на политзанятиях учат, а вы свои документы покажите, мужчина...
— Ну, мерзавец, — сказал Степанов, — ну, сукин сын, пойдем в отделение, пойдем сейчас же!
И, конечно же, сосудик прижало; сердце замолотило в горле; все верно, человек человеку друг, товарищ и волк, как же таких дуборыл берут, как им дают форму, они же — надев форму — олицетворяют не что-нибудь, но власть?!
— Накажем, Дима, — сказал (в Москве уже, в министерстве) генерал Гаврилов; раньше был Сережей (впрочем, им же остался, слава богу, нос не задрал), вместе учились, вместе выходили на ринг.
Наказать, однако, не удалось: с м е с т а на Степанова пришла телега, сработали мгновенно, мол, оскорблял сержанта, тот был корректен, а что «мужчиной» назвал, так разве ж это неверно? Мог бы — ненароком — и дедом, все, кому за пятьдесят, вполне могут быть дедами. А вот столичному гостю неприлично себя так вести, попусту кричать, а потом валидол сосать, — наверняка хотел отбить запах водки, такого коллектив не простит, напишет письмо, сообщит по месту работы, потребует наказания.
Гаврилов тем не менее спустил дело на тормозах, попросив провести беседы с личным составом по поводу обращения к трудящимся. Никаких «мужчин» и «женщин», что за обезличка, право, только «товарищ» или «гражданин», и чтоб честь не забывали отдавать...
После разговора с Гавриловым, чувствуя разламывающую тяжесть в затылке (погода меняется, Галина Ивановна верно говорила, сосуды, как тряпки; только отчего перламутрового цвета, как-то не вяжется, перламутр ассоциируется с эластичностью), Степанов позвонил на киностудию. Он торопился из Ялты в Москву потому еще, что съемочная группа показывала материал, надо посмотреть и не сорваться, оттого что режиссеры поразительно цепляются за каждый кадр, а любое замечание сценариста воспринимают, как вылазку пятой колонны, заговор против фильма. Забывают они, что ли, ведь первой в титрах стоит фамилия сценариста; он п р и д у м а л вещь, режиссеру она понравилась, приглянулись герои, фабула, диалоги, попросил право постановки... Странно, подумал Степанов, отчего-то всегда, после того как начинаются съемки, режиссер считает необходимым переписать диалог, заменить деда на бабку (да здравствует Карел Чапек с его рассказами про то, как делается фильм, гениально!), ввести нового персонажа и жаловаться всем в коридорах студии, что он наново сделал сценарий, прежний был дерьмом. Зачем же тогда брался снимать?
— Дмитрий Юрьевич, очень вас ждем, — сказал заместитель директора съемочной группы (их три, заместителя-то: плати директору две зарплаты, ни одного зама не надо, прямая выгода, ан нет, не хотим шелохнуться, величавая неподвижность, как бы не поколебать устоявшееся). — Просмотр материала назначен на восемь.
Режиссер — перед началом — нудно и бессвязно говорил про то, каким будет фильм, какова его сверхзадача, объяснял героев (будто бы не я их писал, подумал Степанов), мотивировал необходимость изменения сюжета; после пригласил в свою комнату; Степанов чувствовал, что говорит в пустоту, — когда у человека глаза похожи на те, какие бывают у вареных судаков, убеждать нет смысла; есть люди, которые верят только себе; они обречены на гибель в искусстве; раз повезет, другой раз обрушатся; чувство исключительности целые страны приводило к краху, не то что молодого режиссера.
...Вернулся домой в половине одиннадцатого, поставил кастрюлю с водой, — жидкий «геркулес» с оливковым маслом и протертым сыром — самая любимая еда, — просмотрел газеты, за время поездки в Ялту их скопилось множество; телефонный звонок испугал отчего-то — поздно уже; звонил Лопух.
— Здорово, старик, привет тебе.
— Добрый вечер, Юра... Как ты?
— Звоню, чтобы попрощаться.
— Куда уезжаешь?
— Да никуда я не уезжаю. Просто рак у меня.
Степанов прижал ухом трубку, прикурил сигарету (из Штатов перестали поставлять какую-то гадость для советских «Мальборо», крутись теперь, попробуй достать, а привычка — вторая натура, ничего не попишешь), тяжело затянулся:
— Да брось ты. Юра, какой, к черту, рак?! Неужели ты веришь эскулапам?!
— Старик, рак. Легких. И вроде бы желудка.
— Значит, надо оперироваться.
— Что я и собираюсь делать в ближайшие дни.
— И все будет в порядке.
— Верно. Я ведь не просто так в онкологию ложусь, я иду в атаку на старуху с косой, я за своего Дениску иду драться, он же еще маленький, а я должен его хотя бы пару лет опекать, как он без меня будет?! Я отношусь к врачам, как к союзникам, я им буду во всем помогать... Думаешь, я не понимаю, как много зависит от меня?! Я не боюсь, нет, Мить, и не потому, что дурак, у которого представления не работают, просто будет очень несправедливо, если что случится именно сейчас... Все-таки Дениске только одиннадцать, Катя выйдет замуж, а дети трудно привыкают к отчиму: или уж в самом раннем детстве, или лет в семнадцать, там армия, друзья, нет трагедии, нормальный ход...
— Погоди, Юра, погоди, ты что-то слишком рационально мыслишь для ракового больного... Потапова помнишь?!
— Какого? Игоря?
— Да. У него ведь тоже рак нашли, а потом оказалась вполне пристойная язва...
— Митя... Старик... Друг мой. — Лопух вздохнул наконец; потом закашлялся, тяжело, сухо. — Так ведь у него стрессов было поменее, чем у меня...
Это верно, подумал Степанов, стрессов у Потапова было мало, растение, а не человек, главное, чтоб вовремя «бросить в топку», ел по минутам, а Лопуха, бедолагу, сняли с работы за то, что его заместитель оказался проходимцем, жена после этого ушла, ютился по к о й к а м, пока Степанов не пристроил его на Мосфильм, администратором; Лопушок вновь поднялся, доказав свое умение работать, стал директором, лихо вел картины, но внутри-то кровоточило постоянно, нет ничего горше, чем несправедливое наказание, вот его и шандарахнуло; одно слово, стресс, когда только и кто его придумал?!